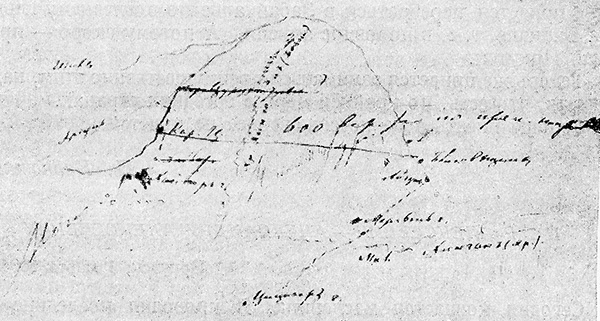П.А. Кропоткин. Письма
1861
Не везет мне, не удалось свидеться с тобой в Москве: батька приезжал со мною, чтобы устроить дела Коли [1], нанять гувернантку Поле [2] (Махова отказалась), мы приехали 10-го утром, а в 12½ утра я уехал; я посылал к Наст. Гавр. за «Рус[ским] вест[ником]», просил ее, если она тебя увидит, сказать, чтоб ты пришел на жел. дорогу, но ты, вероятно, узнал это слишком поздно. Батька под предлогом, что я опоздаю, засижусь у нее, ни за что не хотел отпустить меня к ней, он хотел, чтоб никто не знал об его приезде, боясь, чтоб кредиторы Коли не пришли просить уплаты долгов и, вероятно, чтоб Кравченко не пришел лично требовать денег. В дороге, ехавши с ним, я мерз жестоким образом. Последнюю станцию до Москвы в 42 версты мы проехали в 9 ч. при 32°, еле-еле отогрелся. Он из скупости нанял лошадей Козлова, сторговался очень дешево, за что тот вез по старой Калужской дороге, мы сбивались с дороги, заехали в сугроб, провозились порядком, чтоб выбраться из него, выпрягли лошадей, вываливались из возка, в котором гораздо хуже, чем в санях, я проклинал его на чем свет стоит и наконец решили ехать в 12, потому что мерзнуть еще это невыносимо.
В Калуге время провел не совсем хорошо. Меня таскали по разным властям, на бал, между прочим (можешь меня вообразить), и я ездил потому, что дома было еще скучнее, — заниматься мешали, не было отдельной комнаты, — беспрестанно Ел[изавета] Марк[овна] [3] приходила с любезностями и т.д.
Однако я немного занялся математикой и переводом Литтрова; был между прочим у Шамиля [4], он вел самый официальный разговор с отцом, расспросил отца подробно о Турецкой кампании 1828 г. и т.д.
Часто говорил я с отцом с тебе, — он отзывается о тебе с каким-то отвращением, говорит, что сделал уже завещание, по которому лишает тебя наследства. Потом через несколько времени рассказывает мне, что отец его лишил наследства сына своего Николая, но что они потом разделили поровну, я хвалил это и сказал, что так непременно следовало поступить и следует сделать, он понял меня и только дико посмотрел в глаза.
Он очень постарел, верно не долго проживет, хотя такие существа подолгу живут. Когда мы говорили о тебе, он начинал ругать тебя так, что гадко становилось, я горячо вступался, он начинал с твоих писем, потом перебирал твои поступки и все говорил: «ну теперь будь беспристрастным судьей, а ты к нему пристрастен». Я тебя оправдывал. Он твердил одно: «нет, ты не беспристрастен» и т.д. Он между прочим получил письмо от неизвестного, написанное, говорит, под старинный почерк, от какого-то друга его отца, в котором тот упрекает его за обращение с детьми, стращает совестным судом и т.п. Он говорит, наверное, это ты писал, что сейчас видно: твоя рука, я, конечно, доказывал, что это не может быть, приводил всякие доводы, он твердил одно, что рука слишком похожа на твою и что она неудачно исковеркана под старый лад. Е.М. тоже уверена, что это ты писал. Я просил показать мне письмо, но его получили перед самым выездом из деревни и там оставили. Я всячески утверждал, что ты этого не сделал бы, тем более, что ты верно сказал бы мне об этом.
Прощай, пока больше нечего писать.
П. Кропоткин
11 января 1861 г.
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 97, л. 101–103.
Переписка. Т. 1. С. 206–207.
Примечания
1. Николай Александрович Кропоткин, старший брат А.А. и П.А. Кропоткиных. О его судьбе см. прим. 1 к письму А.А. Кропоткину от 6 февраля 1861 г. и письмо ему же от 17–21 июня 1864 г.
2. Младшая сестра.
3. Мачеха.
4. Шамиль, взятый в плен, с 1859 до 1868 г. жил в Калуге.
На днях я испытывал весьма неприятные впечатления; положительно ни к чему не годился, черт знает какое-то пошлое утомление и духовное и физическое, я не в состоянии был ничего делать; это страшно; обыкновенно я довольно подвижной; тогда подняться куда-нибудь едва был в состоянии, пошел в отпуск, а из Корпуса всегда уходишь с некоторым удовольствием, прошел немного, но прошел не более как 150 шагов от квартиры, вернулся в Корпус и через ¼ ч. опять уехал, скука какая-то; одно только был способен делать: садился к роялю и просиживал целый час, наигрывая, что взбредет на ум, варьируя какой-нибудь мотив, переходя из аккорда в аккорд; теперь прекратилось это пошлое положение.
Ты, может быть, спросишь, что я делал все это время после праздников? — немного. Хотя и работал как лошадь. Я не хотел не исполнить обещания, хотел кончить перевод, и кончил, работая целый день, ничего почти не читал, только занимался математикой и переводил. Эту неделю всю исключительно посвящу математике, надо приготовиться, чтоб пройти все то, что читал мне Беренс до дифференциальных вычислений, ну, конечно, надо позаняться практической частью — задачами.
Потом теперь я ввел у нас, в библиотеке, получение журналов и газет, надо было устроить все это, хлопот не мало по новости дела, тоже много время отнимало, так что всякое чтение отложил в сторону, и за химию не принимался ни разу.
Письмо твое получил, оно удивило меня, я не ожидал этого от отца, он мне казался слишком сердитым на тебя, впрочем, вероятно, обстоятельства Коли [1] сильно на него подействовали, — он его любил.
Напиши мне об Коле, где он и что с ним; где отец? Я не получил от него ни одного письма из Москвы.
Скоро 19 февраля, ты знаешь, что наши крестьяне свободны, но меня бесит наша публика, что из-за личных интересов партий позволяют себе вредить такому делу, аристократия здешняя трусит, жалко, что мы не вместе, — в письме говорить об этом неудобно, посмотрим, что будет.
Прощай, не могу больше тебе писать, не пишется.
П. Кропоткин
6 февраля 1861 г.
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 97, л. 104–105.
Переписка. Т. 1. С. 210–211.
Примечание
1. Коля — старший брат А.А. и П.А. Кропоткиных, служил офицером на Кавказе, страдал запоем. Отец отдал его в 1861 г. в монастырь «на послушание», откуда он бежал в 1864 г. и пропал без вести.
Не лень мне было писать, а вот почему я не писал. Сперва не писал потому, что ничего особенного не было написать. Потом я принялся за одно дело, — составление сжатых записок, вроде конспекта, из физики по новой программе. Работы было немало, — я копался целые дни в разных курсах. Теперь кончил. Это отвлекло меня. Я в то время попался в одной истории, длившейся всю зиму — руготню с французом-учителем. Кончилось тем, что это вывело его из терпения, — меня тоже, мы поругались, меня упрятали под арест, грозили многим, кончилось тем, что продержали 5 дней и выпустили, а между тем у меня разболелись зубы, мучили, мучили несколько дней, ничего не делал, теперь только вырвал. Так шло одно за другим, я и не писал, и на последнее твое письмо не отвечал по той же причине.
Однако славные у тебя фантазии, — отец запретил, — и я не стану тебе писать. Угадал…
Скажи пожалуйста, отчего это у тебя нет переводов? Ты сам не хочешь брать или не удается достать? Ведь поискать, найдешь, обратись к Евг. Тур [1], побывай у Корша [2], похлопочи; признайся, ведь ты ленив ходить, хлопотать для себя. А что ж толку, что ты нашел кредит в вашей лавочке. Толку мало, долго не будут давать в долг. Не зайти ли мне здесь в контору переводов, м.б. и удастся что-нибудь достать, а не то адресуйся сюда в товарищество «Обществ[енная] польза» Струговщикова и К°. У них идет очень усиленная работа, переводят очень много, и м.б. удастся получить сколько-нибудь интересную работу.
Я бы сам занялся, но после того объяснения с Писаревским трудно мне на что-нибудь надеяться. Скажешь, что скучно переводить, да что же делать, коли другого исхода нет.
Что тебе, брат, сказать обо мне, немного есть, что рассказывать. Занятия математикой идут обычной чередой. Химией занимаюсь также постоянно, время от времени, когда появляются финансы, занимаемся опытами в нашей маленькой лаборатории. Свободное время посвящаю музыке. Сегодня я урвался из Корпуса в концерт, и сколько прекрасного, чудного, сколько наслаждался, слушая, например, глубоко прочувствованное трио Глинки из «Жизни за царя», сколько в нем родного, близкого сердцу, выплаканного, как и во всех русских мотивах.
Как в Москве приняли освобождение крестьян? Здесь — с восторгом. 5 марта [3] в театре публика пожелала, чтоб сыграли «Боже царя храни». Как только заиграли, то оркестр положительно заглушили «ура», «браво» и аплодисменты, оркестр кончил, так и не было его слышно, только прорывались аккорды. Потребовали, чтоб сыграли во 2-й раз, — все это с оглушительными криками, и наконец в 3-й раз заставили сыграть.
Народ везде с восторгом встречает царя. Но только у всех недоумение какое-то. «Что же, мы вольные, говорят, или как», и в этаком роде. Дворовые решительно обижены, но вообще весь народ чует, что дело идет к лучшему, хоть и приходится ждать 2 года, хоть и Бог знает что впереди, и крестьяне разных соседних деревень беспрестанно присылают депутации, чтоб благодарить царя, подносят хлеб-соль; таких депутаций очень много.
Прощай, брат, не о чем больше писать.
П. Кропоткин
20 марта 1861 г.
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 97, л. 105–107 об. (с пропусками и неточностями; текст выправлен по рукописи).
Переписка. Т. 1. С. 213–215.
Примечания
1. Евгения Тур (псевд.; настоящее имя Елизавета Васильевна Салиас-де-Турнемир, урожд. Сухово-Кобылина; 1815–1892) — писательница. В 1861–1862 гг. издавала журнал «Русская речь».
2. Евгений Федорович Корш (1809/10–1897) — журналист, издатель, переводчик, в 1858–1859 гг. издавал журнал «Атеней», в 1859–1862 гг. был редактором «Ведомостей Московской городской полиции».
3. День объявления манифеста 19 февраля об освобождении крестьян.
15 апреля 1861 г.
Пишу тебе, мой друг, из лазарета, давненько я сюда попал, с 23 марта, у меня была желтуха, болезнь не опасная, но скучная, долго продолжается, впрочем, у меня она скоро прошла; а теперь как на зло хуже становится, в настоящую минуту жестоко трещит голова, бок болит, черт знает отчего. Это меня бесит, а погода такая прекрасная, подышать воздухом хочется, — весна, а с весной я всегда оживаю, — надеюсь, что головные боли долго не будут продолжаться.
Меня сильно интересует вопрос, да куда же наконец я денусь после выхода из корпуса, — в Артиллерийской академии меня пугает множество других предметов, которыми придется поневоле заниматься, — артиллерия, тактика, этакая скука! Теперь там директор Плитов [1], черт его знает, как он будет смотреть, пожалуй потребует, чтоб непременно посещали все лекции, гадко будет, не останется времени, чтоб ходить в университет слушать те предметы, которые больше интересуют. Если не найду ничего лучше Артиллерийской академии, то, конечно, нечего делать, туда пойду, и я доволен, что начал заниматься математикой с нынешнего года.
А куда иначе пойти? Завись это вполне от меня, вышел бы, надел статское платье и жил бы вольным гражданином (понимаешь?), слушая лекции в университете, и не сделать ли так?.. уехать бы куда-нибудь отсюда, на Амур, что ли, если только там хорошо и есть к чему приложить свои труды, а я чувствую довольно сил, чтобы заняться и быть на что-нибудь полезным…
Я, кажется, заврался.
Увидимся ли мы летом? Я думаю, увидимся, отец зовет после лагеря провести отпуск в деревне; конечно, с большим удовольствием, — по пути увидимся в Москве, можно будет подольше пожить. Кстати, я получил от него отчаянное письмо, он от кого-то узнал, что я сидел под арестом, он в отчаянии, потому что думает, что, просидевши 12 дней, я не буду камер-пажом и пр.; конечно, не пропустил удобного случая поругать тебя и Колю. Прощай.
П. Кропоткин.
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед.хр. 97, л. 108–109.
Переписка. Т. 1. С. 217–218.
Примечание
1. Начальником Михайловского артиллерийского училища и академии в 1861 г. был назначен генерал-майор Александр Степанович Платов (1817–1891).
10 мая 1861 г.
Ты думаешь, не трудно решить вопрос, куда выйти, ошибаешься, брат. Ты говоришь, надо определить, какие теперь сильнейшие у тебя потребности, и согласно с ними создать обстановку. Положим, я верно определю потребности, а обстановку-то создать самое трудное. Я одного хочу: дай ты мне возможность заниматься тем, чем я желаю, не навязывай мне постоянных занятий, будь то караул, или учение, или экзамены из фортификации и артиллерии, или уроки у тупых болванчиков и переводы неинтересных вещей. Я понимаю, что в иных обстоятельствах трудно создать такую обстановку, хотя я готов, даже более тебя, замечу, жертвовать всевозможными удобствами, и замечал, что ты гораздо больше меня любишь комфорт; придется выбирать из нескольких зол меньшее, — это самое трудное. Мне решительно всё равно, быть фронтовым офицером академистом или просто вольношатающимся, лишь бы на вольношатающемся не лежали обязанности труднее первых двух, а потому я согласен взять несколько посторонних обязанностей, лишь бы они мне не мешали учиться, подготовиться хоть к тому, чтоб со временем суметь управлять своим имением, служа в какой-нибудь выборной должности или там чем хочешь. Я желаю искренно быть сколько-нибудь полезным. Я не теряю надежды на то, что могу быть хоть немного полезен, я чувствую, что трудиться я готов, и, может быть, выберу себе труд по силам, тогда, выполняя его, достигну своей цели, — но ученым?.. я улыбнулся писавши, тем более литератором? расстался я с этим с тех пор, как кончил издавать «Временник», авось буду полезен хотя честно работая в своем именьишке, ну, одним словом, это определится со временем, — род моей деятельности, а пока я должен учиться, — я ничего не знаю и именно не хочу, чтоб мне в этом мешали… Вот придумывай обстановку. — Надеюсь, ты поймешь меня, хотя я и трудно высказал свою мысль (и выражаюсь трудно, вероятно потому, что мысль не выработалась). Впрочем, авось, может, увидимся. Кстати, как ты думаешь сюда поехать, еще в середине мая ты, кажется, говорил, что будешь жить в Петергофе, а теперь в Петергофе кроме самих обитателей (очень немногих служащих) никого нет. Напиши, как это ты собираешься и на чем основываешь свой расчет попасть в Петербург.
Ты написал о своей любви, и я понял то, о чем смутно догадывался, думал, но не решался спросить. Еще на Рождестве, когда я смотрел на тебя и на Евгению, ты считал нужным оговариваться, что ты не можешь в нее влюбиться, что она не хороша, но спешил еще прибавить, что тебе нельзя влюбляться, что ты человек, который должен работать. Потом ты рассказал мне о портрете… Помнишь? Затем Нас[тасья] Гавриловна и Леночка говорили, что бог знает, что с тобой делается, что тебе приходилась выгодная работа, что ты не взялся, потом Н[астасья] Гавриловна сказала мне по поводу разговора, который я навел на Евгению, что она очень рада, что «теперь это всё» кончилось, а то ты совсем зажился у Писаревых, что теперь Евгения уехала. Я думал, думал над этим, но, не желая вмешиваться своими расспросами и намеками, молчал, теперь я понял и твой «бред стихами», как ты называешь, и ту особенную интонацию голоса, с которою ты говорил, в них что-то звучало такое — как ты не говорил всякие стихи. Быть может, это тебе было едва заметно, а меня заставляло задумываться.
П. Кропоткин
Какого-то рода новости о тебе?
Пришли, если тебе не нужны, твои письма.
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед.хр. 97, л. 110–111 об.
Переписка. Т. 1. С. 222–223.
Я только что пришел от Вареньки Друцкой [1], — она здесь проездом из-за границы. Она слышала много об тебе (притом, помнишь, что я говорил тебе про нее) и желает с тобой вновь познакомиться или возобновить знакомство, что ли, потому что она тебя видела еще маленьким, и просила меня написать это тебе.
А потому, если хочешь, отправляйся к ней, она, вероятно, остановится у Пушкиных. Если не хочешь, то, если когда-нибудь встретишься с Пушкиными, скажешь, что получил мое письмо, когда ее уже не было в Москве; а пробудет она там два дня, едет же завтра, 13-го.
Скоро я буду тебе писать.
П. Кропоткин
12 июня.
А после последнего нашего прощания, я все еще поджидал тебя. Думаю — нет, нет да придет, еще не уехал.
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед.хр. 97, л. 112–113.
Переписка. Т. 1. С. 223–224.
Примечание
1. Двоюродная сестра братьев, дочь их тетки Елены Петровны, вскоре вышла замуж за двоюродного брата П.А. и А.А. Кропоткиных Ивана Ивановича Мусина-Пушкина, семья которого упоминается в настоящем письме.
Мы теперь в лагере, и я уже начал занятия с Классовским [1], пока еще греческим языком только, за неимением латинской книги, — надули при покупке. Дело идет очень ладно, подвигается вперед очень быстро, у него удивительно хорошая метода, я взял всего 3 урока и уж замечаю сам, что ощутительно подвинулся, — правда, сначала скучны склонения, спряжения и пр. дрянь, зубришь да и только, потом пойдет лучше, когда самому можно будет начать переводить, — но все-таки я доволен тем, что взялся за это, — даром бы протаскался весь лагерь, а теперь занят, работаю довольно, и чувствую, что на душе как-то лучше.
Я купил себе несколько книг, кроме греч[еской] и лат[инской] грамматик. «Введение к изучению химии» Жерара [2], которую теперь и читаю, и «О внешних чувствах» Баландина , — признаюсь, я большего ожидал от нее, впрочем, пожалуй, прочел ее не даром, познакомился с физиологическим процессом, происходящим при передаче впечатлений нашими нервами, с устройством органов чувств. Скоро примусь за «Популярную астрономию» Араго [3], я купил ее для Библиотеки.
Я умалчиваю об твоей мысли об обществе, ты знаешь, как мои убеждения сходятся в этом с твоими, я еще несколько раз передумал об этом, — остался при том же.
Что за фантазия писать отцу такие письма? Что, он поймет тебя? А не поймет, так к чему же? Ты бы еще по-китайски написал. Твоя цель, чтоб он выслал тебе деньги, а не по-китайски перед ним говорить, — он еще, пожалуй, сделает сближение фосфористых жиров со спичками, он об фосфоре не имеет другого понятия, — странный ты человек.
Я сегодня получил письмо от Саши Друцкого [4], — пишет об книгах, между прочим он пишет, что Варенька [5] очень огорчена, что не виделась с тобой, и пр.
Ты, вероятно, знаешь об ней, что она давно влюблена в Ивана Ив. Пушкина [6], хотели жениться, насилу устроили, и свадьба будет в январе, конечно, потихоньку (но с согласия родителей), а то могут засадить в монастырь; конечно, пока это останется между нами двоими, а то могут помешать. Прощай.
П. Кропоткин
Пиши до 1го августа в Петергоф, в Кадетский лагерь, в Пажеский корпус; впрочем, можно и в Петербург, только днем позже получишь.
1 июля 1861, Петергоф.
Через несколько дней мы увидимся. 4-го я еду в Никольское. Я писал об этом отцу, прося выслать деньги, но ответа еще нет, потому что он только сегодня, 30-го, получил мое письмо, но я вчера получил от него 25 р. на доплату человеку жалования, за библиотеку и т.п. Это всё подождет, а на эти деньги я еду в Никольское. Надеюсь, что хватит.
Вот почему я еду: 1 — увидимся с тобой, 2 — мне от 3-го до 27-го деваться некуда, 3-е мы выходим из лагеря, отпуск до 27-го. В Корпусе никого не остается, я один, надо для меня дежурного офицера и т.п., одним словом, страшная возня из-за меня одного, это тем более неприятно, что глупое фельдфебельство делает это еще более неловким. Петр Николаевич в отпуску, Дмитрий [7] в Стрельне живет с офицером и вовсе не будет мне рад, остается ехать в Никольское. Один товарищ зовет меня к себе в деревню, но это не всем приятно, и с тобой я в этом случае не увижусь. Я выезжаю 4-го в 2 часа, буду в Москве 5-го в 8 ч.; придется переночевать, напиши без церемоний, можно ли у тебя переночевать. Настасия Гавр[иловна] [8] здесь, так что у нее нельзя, вероятно ты мне не откажешь в этом.
Скажу тебе о моих занятиях (математикой) латинским и греческим, что успехи огромные, — я уже прошел спряжения, латинск[ие] и греч[еские] (последние страшно запутанны), теперь разбираю каждое слово. Недалеко ушел, но дальше уйти невозможно, на это употребляется полгода в гимназиях на каждый язык. Классовский говорит разные комплименты, говорит, что в первый раз видит, чтоб можно так много сделать, вообще мастер расхваливать. Зимою, я думаю, что буду продолжать занятия для поощрения, чтоб не залениться, найму какого-нибудь дешевенького студента, только чтоб понуждал заниматься, а то согласись, что зубрить спряжения и заучивать слова нисколько не интересное занятие, а подвернутся другие занятия, эти совсем и бросишь. Между тем, сделавши так много, одолевши самую скучную работу, жаль бросить: Классовский на это и рассчитывал.
Отец беспрестанно пишет мне то же, что и тебе. «Крестьяне ничего не платят, живу-де одним «пенсионом». Мне написал самое любезное письмо, вообрази, очень доволен, — там Леночка, и все письмо так и дышит радостью, даже про тебя и Колю ничего не пишет, между тем как прежде это была обычная тема его рассуждений, особенно Коля в последнее время. Что до твоего письма, то едва ли оно произведет желательное действие, во-первых, оно слишком противоречит тому, что ты до сих пор говорил, 2-е, он скажет: «слишком возгордился», — «почище его да служат, — всякий должен начать с маленьких чинов». Елиз[авета] Мар[ковна] разовьет эту тему и сейчас заметит поддельный тон, который слишком у тебя проглядывает, — даже она заметит, уверяю тебя.
Потом твоему поступлению в университет, отложенному до будущего года, отец не поверит, — ты его обманывал подобными штуками, тебе придется еще размазывать мысль об этом, делать вид, как будто занимаешься лат[инским] и т.п.
На меня ты можешь смело рассчитывать для своей поездки, только я эти деньги получу не ранее как к концу июня, а потому постарайся занять, я отдам.
Прощай, больше пока писать нечего. 5-го в 9-м часу мы увидимся, м.б. раньше, если ротный командир предложит мне уехать из лагеря до выступления, сам же проситься не буду.
П. Кропоткин
30 июля 1861 г.
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед.хр. 97, л. 114–119 об. (с пропусками и неточностями; текст выправлен по рукописи).
Переписка. Т. 1. С. 229–232.
Примечания
1. Владимир Игнатьевич Классовский (1815–1877) — филолог, преподаватель Пажеского корпуса. Заметив выдающиеся способности Кропоткина, настойчиво советовал ему готовиться в университет и предложил ему давать частные уроки.
2. См.: Gerhardt Ch.F. Introduction sur l'étude de la chimie sur la base du systeme unitaire. — Paris, 1848; в рус. пер. — Жерар Ш.Ф. Введение к изучению химии по унитарной системе. — СПб., 1859.
3. Имеется в виду книга: Араго Д.Ф. Общепонятная астрономия. СПб., 1861. Т. 1–4. П.А. Кропоткин пользовался французским оригиналом и русским переводом этого труда (см. письмо от 7 декабря 1861 г.).
4. Двоюродный брат Кропоткиных.
5. Варвара Дмитриевна Друцкая, двоюродная сестра П.А. и А.А. Кропоткиных, сестра упомянутого выше Саши Друцкого.
6. Товарищ и двоюродный брат П.А. и А.А. Кропоткиных, в то же время двоюродный брат В.Д. Друцкой. Несмотря на свое близкое родство, И.И. Пушкин женился на В.Д. Друцкой.
7. Петр Николаевич и Дмитрий Николаевич Кропоткины, двоюродные братья А.А. и П.А. Кропоткиных, сыновья Николая Алексеевича Кропоткина, брата их отца. П.Н. Кропоткин — гвардейский офицер; Д.Н. Кропоткин — флигель-адъютант Александра II, впоследствии харьковский генерал-губернатор, убит в 1879 г. революционером Григорием Гольденбергом за жестокие расправы над политическими каторжанами.
8. Тетка братьев Кропоткиных.
Пишу тебе, милый Саша, только чтоб дать весточку о себе, не пишется что-то, я не в духе, грустно, почему? Бог весть, хандрю.
Араго я тебе не посылаю, потому что еще не получил, ждут инспектора, чтоб отдать его, а инспектор в Москве, болен, будет не ранее 15-го. Я видел его и даже пользовался для справок. Он лежит в кабинете инспектора около классов, а я там занимаюсь по правам фельд[фебеля].
Недавно написал отцу условия, чтоб заниматься в Академии. Нужно не мен[ее] 200 р. до мая 1862. Теперь в Академии два отдела, технический и фронтовой. В техническом (я верно туда пойду) только 4 предмета — химия, математика (интегр. вычислен.), тоже недурно, и арифметика и баллистика. Потом во 2-м классе еще теор. механика. Следовательно сносно. Верно туда пойду. Прощай. Больше что-то не пишется.
П. Кропоткин
7/IX—61.
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 97, л. 120–120 об.
Переписка. Т. 1. С. 232–233.
Твой план ни к черту не годится [1], только с отчаяния и могла прийти в голову подобная нелепость. Я знаю, ты страшно самолюбив, из-за моего письма ты плана своего не переменишь, но подумай, тут куча препятствий. 1) Тебя постараются не выпустить кредиторы из Москвы, если ты не расплатишься, 2) надо денег для перехода в «естественное состояние», а если ты их достанешь, то ты можешь употребить их более лучшим образом в Москве. В твоем естественном состоянии жить тебе будет нечем, галок не так легко стрелять, как кажется, — близко не подпускают, да и стрелять ты не умеешь, а потом, хоть будь у тебя или не будь вид, тебя непременно сочтут за бродягу и упрячут куда-нибудь.
Сверх того, еще не всё потеряно. Напиши отцу «повразумительнее» без ученых слов, которые тут только портят, я с своей стороны тоже напишу. Черт возьми, наконец извинись перед ним еще раз, неприятно, — но что же делать, твое безвыходное положение тоже неприятно. Наконец попытайся сходить к Пушкиной, попроси ее написать отцу, жаль Друцкой нет, та сумела бы, разве ей написать, она в Можайске. Наконец, если б только расплатиться за прошлое, как-нибудь проживешь еще месяц, два, а тем временем отца можно будет образумить, а я не теряю надежды, что он сколько-нибудь вышлет. Ты ошибаешься, ты можешь учить, давать уроки, прочитавши историю, географию, ты в состоянии будешь ее передать другому, и, поверь, передашь вдесятеро добросовестнее и лучше, чем любой учитель; наконец, отец, узнавши, что ты даешь уроки, скорее всего вышлет денег. А твой план положительно неудовлетворителен. Подумай, ты вероятно лучше меня можешь придумать что-нибудь, но не решайся на этот переход, что за жизнь будет, сам твердишь — тебе нужно время для занятий, а тут будет оно? а месяца 2 так проскитаться, — ух как неприятно! Еще, ради бога, или кого там хочешь, одним словом подумай, не вздумай брать с собой Мишу Ярцева, зачем его впутывать, хоть он и сам навязывается, а почем ты знаешь, что он тебя сам не будет потом ругать, — а если он заболеет? Сам заболеешь, приятель, взятки гладки, брать с тебя нечего, а заболеет товарищ, за тебя возьмутся, плата за ночлег, пожалуй за присмотр, — ты не забудь, что ты под Москвой будешь, а не в благословенной степной губернии, где все это можно было даром бы сделать. Наконец могут быть сотни случайностей.
Подумай.
Черт возьми, письмо безалаберно вышло, но черт с ним. Прощай!
П. Кропоткин
25 сентября 1861 г.
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед.хр. 97, л. 121–122 об.
Переписка. Т. 1. С. 235–236.
Примечание
1. А.А. Кропоткин, оказавшись совсем без денег, в письме брату от 23 сентября 1861 г. излагал такой план: «Если до 1 октября мне с неба не свалится какое-нибудь обеспечивающее нечто (место, занятие, деньги) — я сделаю следующее: 1) куплю полушубок (займу денег), 2) ружье в 3 руб., 3) пороху, пистоны, дробь, 4) достану денег на ночлеги и обогревание днем на два–три месяца по 5 коп. в сутки, затем уйду из Москвы куда глаза глядят. […] Так пойду ж я и перейду в то „естественное состояние“, о котором мечтали философы прошлого столетия. Жаль только, что ружье и т.д. всё это плоды цивилизации. Питаться буду какими-нибудь птицами, которых застрелю, конечно: именно, галками, воронами, голубями. Жарить буду на вертеле, и уж, разумеется, без масла» (Переписка. Т. 1. С. 234).
Петербург, 4 окт. 1861 г.
Письмо твое получил вчера, но не отвечал вчера, потому что некогда было.
Вот что у нас делается.
Ничего хорошего, — везде подлость, мерзость, гадость. В понедельник на прошлой неделе, кажется, было сборище студентов университета*. Университет закрыт, студенты собрались, была сходка, совещались о мерах, которые нужно принять. Приехало все начальство, Николай Николаевич, Михаил Николаевич [1], а Филипсон [2] удрал. Потребовали войска, подняли Финляндский и Гатчинский полки по тревоге и т.п. Эскадрон гвардейских гренадер был вызван. Студенты ходили к Филипсону гурьбой по Владимирской, потом шли торжественным шествием по Невскому с полками, за ними следовали жандармы, но тронуть не могли, не за что. Университет закрыт за то, что читали (говорят) прокламации в университете, там закрыли комнаты, где курили и где были сходки, запечатали, приставили инвалидов и т.п. Делали пошлости. Наконец, после всего закрыли. За это и начались «уличные беспорядки».
В понедельник на прошлой неделе сходка была важнее, «демонстрация» сильнее, потребовали войска. Патруль (от полиции) студенты приняли насмешками, ругательствами, он должен был уехать. Несмотря на войска и прочее, сходка продолжалась, говорили спокойно, совещались (о чем — не могу сказать наверное). Студентов хотели разогнать войском, оттесняли понемногу, говорят, было скомандовано на руку, но оставили. Михаил Николаевич был против этого, вообще против того, что подняли войска. Некоторые говорят, что вообще он сочувствует студентам, что он в совете громко ругался за все эти меры. Очень может быть, он вообще довольно симпатичная личность. Зато Николай Николаевич — увы!.. Впрочем он теперь уехал.
Начали хватать студентов, ловить всех, кого вздумается агентам тайной полиции. По всему городу ходят патрули, разъезды, в частях стоят команды, полки в готовности выступить, караулы усилены. Беспрестанно встречаем жандармов командами, их видели, идут, остановятся у фонаря, запишут что-то. Идет студент ночью. Сзади подкрадется агент 3-го отделения, ударит по башке, за ним двое, и вяжут. Потом отводят и сажают повсюду в крепость, части и т.п. Говорил один дворник, что на Владимирской около дома Филипсона, если сходились студенты, то по звонку дворники должны были собираться и вязать, кого укажут. Дворник простодушно объяснил: «ну и вяжешь, а он норовит драться, ну и заедешь в морду». Так ловят несметное количество. На днях, в понедельник на этой неделе, было сходбище, вероятно, около университета, видели очевидцы — такое шествие: впереди войска составляют цепь, по бокам тоже, жандармы тоже составляют цепь, идет взвод, за ним 16 студентов, взвод, еще 16 студентов, взвод, цепь, жандармы, за ними несметное количество городовых. Это торжественное шествие после сходки от университета по Тучкову мосту в крепость.
Арестованных много, до 300 по слухам. Но вот факт. Один подрядчик просил знакомого мне фабриканта поставить непременно нынче или завтра 53 одеяла для студентов в крепость. Верно же были одеяла прежде и потребно 50. А в частях их тоже очень много. Офицер говорил, что он должен был послать команду с унтером, чтоб перевести из одной части в другую студента. Его сдали связанного. Он приказал развязать, чтоб вести по улице. Таких фактов бездна.
Интересно вот что. Студентов переловлено до 300. Но они не унывают нисколько, всякого встречаешь с веселой физиономией.
Назначена сходка, всем это известно, войска выстроены, везде жандармерия. Ничего. Все приходят, говорят. Требуют, чтоб разошлись. Расходятся не раньше, как если оттеснят войском или когда кончат сходку. Вообще характер сходок не более как «демонстрация». Хотят добиться, чтоб открыли университет, и избавиться от матрикул и пр. стеснений [3]. Они очень мирно все это делают, не стесняясь, но без лишних выходок, все хладнокровно. Общество им сочувствует. Медико-хирургическая академия за них. Артиллерийское училище тоже. Там должна была быть сходка, но не удалось, развели мост Литейный и, что забавно, поставили барку, как будто она должна пройти, но она простояла так несколько часов не двигаясь.
Михаил Николаевич был в Артиллерийском училище, говорил, как говорят, очень дельно, просил не вмешиваться, надеясь вызвать сочувствие к себе, и наконец спросил, сочувствуете ли вы мне? Многие вообще приняли очень холодно. Говорят, очень шумели в понедельник, кричали, что картечью их бы надо и т.п. Но это говорят.
Прочее все положительно верно, где только слухи, я поставил «говорят».
Никто не предвидит, чем все это кончится, — исхода нет, в военных кругах только одного хотят — пороха. Этим думают оправдать перед государем то, что выводили войско и придавали такой важный характер закрытию университета. У нас шутят, пустяки.
Между прочим сидят в крепости В. Костомаров [4], Н. Костомаров [5] (как говорят) и пор[учик] Энгельгард под арестом. Наша надежда, русский химик [6] и тот попался за то, что проходил по Литейной и поругался с кем-то из высшей полиции. Николай Николаевич [7] хочет его выгнать, он только что и надеется, что на Михаила Николаевича.
Между прочим поймали агента 3-го отделения, который распространял слухи, что в воскресенье будет сходка у Казанского собора, в надежде, что соберутся и будет стычка. В Пажеский корпус приходил мужчина, переодетый в женщину, узнавать, что думают пажи о студентах и т.п. Говорил, что в воскресенье будет назначена сходка для всех недовольных, за Шлиссельбургской заставой были собраны войска, и решено ввести в дело артиллерию, если сходка состоится и не будет расходиться. Оказалось выдумкой — сходки не было.
Все недовольны действиями Паткуля, Игнатьева и Шувалова [8].
Подлость, мерзость, гадость.
Я тоже писал об тебе отцу в довольно энергичных выражениях, подействует, я думаю.
Ты знаешь, что я решил идти в Академию, надо б уроки брать. Должно бы стоить около 200 р. Я написал отцу, полагаясь на его обещание, и получил отказ. Доходы-де плохи, эмансипация виновата.
Я не знал, на что решиться; будущность вольношатающегося опять была вызвана на сцену, я стал серьезно о ней подумывать. Но вот сегодня получил письмо от Каминского, офицера в Артиллерийской академии, с которым хотел было заниматься. Я передал ему через одного товарища, что не могу с ним заниматься, тот, вероятно, объяснил почему, и вот письмо, которое я получил:
«Все-де заставляет думать, что домашние обстоятельства несколько мешают вам заниматься математикой, так как вы этого хотели. Я знаю вас из слов Хрещатицкого (одного товарища казака, я говорил тебе про него) и наконец я знаю вас лично (я видел его раз 6), а потому осмеливаюсь вам предложить: отбросив все светские предрассудки, столь вам несвойственные (отбросьте их из любви к науке)».
…В заключение: «Еще раз скажу вам, отбросьте все предрассудки и пользуйтесь, если только я вам могу быть полезным. Предложить это вам было почти моею обязанностью, ибо я сам безвозмездно пользовался уроками 2 года.
Жду ответа.
Весь ваш Ефим Каминский».
Вот какого рода письмо. Он простой, честный малый, поляк, любит математику страстно и не принадлежит к числу тех математиков, которых так много в Корпусе и о которых мы говорили с тобой. Отказаться почти нет возможности, принять не совсем ловко; я нахожусь в затруднении, но, кажется, переговорю с ним завтра и соглашусь заниматься 1 час в неделю. Буду проходить сам, а с ним просматривать что потруднее.
Приходилось плохо, надо было идти в Академию, и я готов был решиться заниматься сам, не идти же во фронт, ты это знаешь, я не раз тебе писал и говорил.
Напиши мне твое мнение об этом (на оба предложения).
Араго я могу выслать теперь.
П. Кропоткин
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед.хр. 97, л. 123–125 об.
Переписка. Т. 1. С. 237–242.
Примечания
*Между прочим студенты всех приглашали прийти на сходку, если кто сочувствует. Звали на улицах, звали, если кого встречали у знакомых. (Прим. П.А. Кропоткина).
1. Великие князья, братья царя. Царь в это время был в Крыму.
2. Григорий Иванович Филипсон (1809–1883) — генерал, сенатор, участник Кавказской войны. В 1861 г. был назначен попечителем Петербургского учебного округа, но после студенческих волнений подал в отставку (уволен в начале 1862 г.).
3. По инициативе назначенного в 1861 г. министром народного просвещения адмирала Е.В. Путятина был осуществлен ряд реформ в области высшего образования: были введены матрикулы (зачетные книжки), посещение лекций было сделано обязательным, отменено освобождение от платы бедных студентов. Последние два нововведения особенно больно ударили по разночинной молодежи. Также большой резонанс получил циркуляр от 21 июля 1861 года, которым запрещались любые студенческие собрания. Эти и другие нововведения, о которых студенты узнали в начале учебного года, спровоцировали беспорядки, в Петербурге и Казани произошли столкновения с полицией. Беспорядки вынудили правительство 22 сентября закрыть Петербургский университет, что лишь увеличило волнения среди молодежи. Некомпетентность министра стала очевидной, и 6 января 1862 г. Путятин подал в отставку.
4. Всеволод Дмитриевич Костомаров (1839–1868), писатель, поэт-переводчик. Известен тем, что после ареста в августе 1861 г. за распространение составленных им же прокламаций дал откровенные показания и не гнушался фабрикацией вещественных доказательств вины Н.Г. Чернышевского, М.Л. Михайлова и других знакомых.
5. Этот слух не соответствовал действительности. Николай Иванович Костомаров (1817–1885) — историк, профессор Петербургского университета — арестован не был, но после студенческих волнений и закрытия университета вышел из состава его профессоров.
6. Подразумевается Дмитрий Иванович Менделеев, который в это время был приват-доцентом Петербургского университета.
7. Великий князь Николай Николаевич (старший) в 1861 г. был командиром Отдельного Гвардейского корпуса; не совсем понятно, как он мог «выгнать» приват-доцента университета.
8. Александр Владимирович Паткуль — генерал-адъютант, в 1861 г. — петербургский обер-полицеймейстер; Павел Николаевич Игнатьев — генерал-адъютант, в 1861 г. петербургский генерал-губернатор; Петр Андреевич Шувалов — с ноября 1860 г. директор Департамента общих дел Министерства внутренних дел.
Извини, Саша, что я не писал тебе довольно долго, — положительно некогда было, целые дни завален был работой. Занимаюсь математикой. Мой учитель славный малый, любит математику от души, читает прекрасно, и проходит очень скоро, много приходится работать. Да к тому же подоспела надобность к классам подзаняться, я запускаю по-часту, так что времени выдавалось очень немного. А ты отчего не пишешь? Ведь тебя выпустили (мне говорил Петр Николаевич [1]). Кстати, как он тебе понравился? Письмо Васильковского меня нисколько не удивило, я был уверен, что ты примешь деятельное участие и что тебя упрячут, был до того уверен, что, разговорившись с одним товарищем о здешних мерзостях, я сказал ему и про тебя и вполне уверенно говорил, что ты будешь сидеть где-нибудь. Напротив, письмо Васильковского меня успокоило. Один господин, рассказывая мне о том, что было в Москве, по письму из Москвы, которое ему читали, сказал, что в числе пострадавших есть, кажется, какой-то Кропоткин, и говорил, что там сказано, что чуть ли он не ранен [2].
Я ждал письма от Вас[ильковского] и немного удивлялся, что так долго его не было. Теперь же ты выпущен, что же ты ничего не напишешь, что тебе намерены сделать и т.п. Петр. Ник. говорит, что вероятно арест вменят в наказание и не более. Правда ли?
Между прочим наш Желтухин приехал на днях из Москвы и говорил мне, что слышал в «городе», что тебя арестовали, что ты что-то ответил попечителю вроде того, что долг всякого порядочного человека был присутствовать при сходке и заявить свое сочувствие, что-то вроде этого. Желтухин не мастер выражаться.
Что здесь делалось? Ты вероятно слышал и читал. Последние штуки Преображенского полка просто гадки, со временем м.б. расскажу, если ты сам не знаешь, как оно было на самом деле. Вся эта подлость меня возмущала, просто кровь портила, черт знает что!
А теперь ничего себе, наполняется университет студентами, тех, кто не хочет брать матрикулу, отсылают на место рождения, так одного господина, который родился и прожил только несколько лет на Кавказе, отсылают туда, ну он и берет матрикулу, словом, мера, нечего сказать…
Про себя скажу, что мне теперь хорошо живется, целые дни занят, математика идет хорошо. Потом теперь принялся за изучение французской революции и периода после нее, теперь я дошел до этого, так что времени свободного нет, только раз в неделю хожу в манеж, геморрой разбить, а то слишком много сижу, да раз на стрельбу, уметь стрелять из штуцера, может быть, пригодится когда-нибудь. Не правда ли?
Вообще в настоящее время я чувствую себя хорошо, — день все кажется слишком коротким, дня не хватает, да к тому же снова встают вопросы о материализме и пр. Вообще я замечаю, что постепенно склоняюсь более и более к твоему образу мыслей об общем устройстве и пр., сам как-то приискивая доводы, я уже как-то несколько раз развивал их.
Прощай, уж очень поздно. Завтра рано вставать.
П. Кропоткин
3 ноября 1861 г.
Надо будет скоро Леночке написать, поблагодарить за подарки, не говори ей, что получил от меня письмо.
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед.хр. 97, л. 126–127 об.
Переписка. Т. 1. С. 242–244.
Примечания
1. Петр Николаевич Кропоткин, двоюродный брат А.А. и П.А. Кропоткиных.
2. Речь идет о студенческих волнениях в Москве, в которых А.А. Кропоткин принимал активное участие. Студенты большой толпой направились от университета по Тверской к дому генерал-губернатора. На Тверской площади, против гостиницы «Дрезден», на студентов набросились полиция и дворники. Это побоище получило название среди студентов «дрезденской битвы». Многие студенты были избиты, арестованы и посажены на съезжую. В их числе был и А.А. Кропоткин, который был после этого исключен из числа вольнослушателей.
7 декабря 1861 г.
Не писал я долго потому, что все ждал денег — ты угадал. Ждал со дня на день, каждый вечер спрашивал своего Иванова [1], нет ли писем, и отец с тех пор, как я приехал из деревни, ничего мне не присылал, так что Араго послать решительно было не на что, тем более, что книга довольно тяжела и, будучи в полной уверенности, что завтра может быть получу деньги, я и не писал. Теперь посылаю Араго, — держи, сколько хочешь, у меня в распоряжении русский перевод. Ты увидишь, что чертежи перепутаны, некоторые находятся в конце IV тома, впрочем, ты сам разберешь.
Недавно я раздумывал, отчего наша переписка такая вялая сравнительно с прежней, неужто меня не интересует ничто, что бы могло заинтересовать тебя, что я тебе никогда не пишу такого, над чем можно остановиться, что бы подало повод к переписке, как прежде? Не поверю этому. Обо многом мы могли бы переговорить и сошлись бы мы с тобой в мнениях, конечно, более, чем ты предполагаешь. Ведь тогда решали мы отвлеченные вопросы, об которых каждый мог исписывать листы, тогда ты разрушал мои верования, писал об своих сочинениях, я возражал, я отстаивал старое, а то высказывал свои мнения в виде предположений. А теперь? Теперь не то. Ты высказываешь мне, напр., свои убеждения относительно чего-нибудь. Я с тобой не соглашаюсь больше в подробностях, об этих подробностях стоило бы только переговорить, перекинуться словом, и я пожалуй бы и согласился, но излагать это в письме очень трудно, да и не стоит. Потом ты сам заметишь, что я после, может быть, соглашусь, но соглашаюсь-то я туго, и не путем одних отвлеченных рассуждений, а больше вглядываясь в факты, например, в вопросе о пролетариате, об том, что скоро предстоит громадный переворот в обществе, ты давно мне это высказывал. Что же мне было тебе ответить? И да и нет. Может быть будет, а может и нет. А теперь, когда я перечитал о том, как живет несчастный рабочий в Англии и во Франции [2] когда меня несколько раз дрожь пробирала, читая это, когда я убедился, что теории политической экономии тут не помогут, тогда я сделался таким же, если не более даже, горячим защитником пролетария, как и ты.
Наконец сколько мелочей я бы мог тебе передать о самом себе, сколько заметок над моим характером, а вздумай я писать об этом, выйдет, пожалуй, чепуха, бессмыслица, а переговорить есть кое о чем.
Знаешь ли, мне пришел на ум твой приезд в Петербург, мы сидели по получасу молча или переговариваясь чуть ли не о погоде; неужели же не об чем мне было говорить тебе? Вздор.
Наконец прибавь к этому, что я вообще туго высказываюсь, и право, я даже несколько конфузился, т.е. не конфузился, а так как-то мне не совсем ловко было тебе высказываться, и не снюхались, как ты заметил. А почему не снюхались? Ведь не в первый раз свиделись; а потому, что я тебя из писем-то твоих знал, да другим немножко знал, чем ты есть на самом деле, да и ты меня так же знаешь, хоть и не хитрим друг перед другом.
Погоди, поживем вместе, лучше узнаем друг друга, может быть как-нибудь и сойдемся ближе на деле.
Да, что ты пишешь о своем миросозерцании, последняя фраза непонятна, сам виноват, темно выражаешься.
Ну, баста, написал я довольно, самым безалаберным образом, я всегда стараюсь только набросать, да ты это и по почерку заметишь, потом я из набросанного, может быть, и сумел бы что-нибудь сделать, только всегда приходится писать совершенно вновь, в письмах же не стану этого я делать, да и нет надобности, мы все-таки, надеюсь, поймем друг друга.
К чему ты зовешь Колю? [3] Что ты ему дашь? Ваня Кропоткин [4] так же скоро тебя бросит, как и всякого другого, когда ты ему наскучишь, а Коля тебя же будет упрекать, будет надоедать и пр., сколько я могу судить по тому, как я его знаю.
Ты кутишь, к чему? Хорош ты в пьяном виде? пей, нализывайся время от времени, но не без просчету, да и Искандер, кажется, советует напиваться только время от времени, с этим я согласен, бывает приятно иногда забыться и заснуть. А здоровье твое? Смотри, наживешь себе разной венерии.
А, il faut faire de l’argent [5] несогласен.
Прощай.
П. Кропоткин
Твое письмо получил только сегодня, мой человек задержал его, — сунул в ящик и забыл отдать. Араго высылаю завтра.
8 декабря. Посылка опять не готова, а письмо и так уже запоздало, я его отсылаю сегодня, а посылка, верно, пойдет завтра.
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед.хр. 97, л. 128–130 об.
Переписка. Т. 1. С. 244–247.
Примечания
1. Видимо, денщик П.А. Кропоткина.
2. Речь идет о статье Н.В. Шелгунова «Рабочий пролетариат в Англии и Франции» (Современник. 1861. № 9–10), в которой пересказана книга Ф. Энгельса «Положение рабочего класса в Англии». П.А. Кропоткин написал рецензию на статью Шелгунова (см. Книжный вестник. 1861. № 24, 31 дек.). Эта рецензия, видимо, является первой печатной работой П.А. Кропоткина.
3. Старший брат.
4. Двоюродный брат П.А. и А.А. Кропоткиных.
5. добывать деньги — (фр.).
1862
Нижний Новгород 27 июля 1862 г.
Милый Саша! Моя записка верно удивила тебя, я писал ее почти под диктовку отца, как ты, верно, сам догадался. Что ж? Недурно. Положим, это и сами бы устроили, но отец говорит, что не дадут прогоны, на всякий случай это не мешает. По крайней мере теперь почти верно что мы с тобой увидимся, если и не скоро, то довольно скоро. Я старался получить ответ, чем же тебе жить до тех пор?
— Тем же, чем жил и прежде. — На просьбу выслать тебе денег из Тамбова не получил никакого ответа, или «где я их возьму?»
В день отъезда он проснулся очень рано, раньше, чем я предполагал вставать, т.е. в 6½ ч. Задолго еще до этого он будил меня; я говорил, что «рано». — «А я вот всю ночь не спал». «Отчего?» — «Все думаю об нем». Он тебя избегает называть. «Ты вот напиши ему, чтó я придумал». Мне пришлось несколько раз уверять его, что теперь ты не тот, что ты готов служить, не откажешься от какого-нибудь незавидного местечка. — Фанаберия верно от голода прошла» — «Может быть», и т.п. Наконец, когда я писал тебе, пожелав всего лучшего etc., я спросил: «от себя и от вас?» — «Ну, пиши…»
Итак, общий вывод, — еще одной вероятностью больше, что мы с тобою увидимся. Недурно. Но меня беспокоит, чем ты проживешь теперь, а слабой надежды на отца мне далеко не достаточно. Пиши об себе подробнее и скорее по получении письма, чтоб твое письмо застало меня в Омске (Адр. в Омск, до востребования).
Что сказать тебе, Саша, об своей дороге? Писать тебе дорожные впечатления?.. Ей-ей, тебе, не знаю почему, как-то и не стало бы писаться, хотя ты и прочел бы с удовольствием, но тебя интересовало бы в них не то, что делается во Владимире или Нижнем, а то, как я на это смотрю, а для этого исписывать не стоит листов. Дорожные впечатления оставляю для Ел[изаветы] Марк[овны] и других, а тебе лучше прямо скажу об себе.
Дорога меня интересует, ты об этом сам догадываешься. Она составляет удовольствие и на здоровье дурно не отзывается — скорее хорошо. Я полнею, если не в щеках, то в теле, — мне это не мешает. Я чувствую себя бодрым. Во Владимире, вечером, я походил по городу, по старому валу (древность такая!). В Нижнем очутился 24-го вечером (22-го веч. во Владимире, 23-го в Вязниках, 24-го Нижний, 390 верст). Каждый день ночую и располагаю так ехать всю дорогу. В Нижнем попал в заточение: осужден сидеть до понедельника или вторника, когда идет пароход в Пермь. Однако мое заточение недурно: под боком ярмарка, а ярмарка интересна, с другой стороны — Новгородский кремль со старыми соборами, вечевою площадью и восхитительным видом на соединение Оки с Волгой, где на мысу ярмарка, и на раздолье в 30 верст в окружности, даже больше. Все это, вместе с ходьбой, — хожу очень много (в статском), — помогает печени исправно работать, и я довольно здоров. Езда на перекладных, к удивлению, не утомила меня нисколько, правда, я сделал в два дня по 110 верст каждый, ночевал. Теперь поеду на пароходе, тоже хорошо, дальше посмотрим, тогда напишу.
П. Кропоткин.
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 97, л. 149–150 об.
Переписка. Т. 2. С. 31–32.
Пароход «Купец», Кама, 3 августа 1862 г.
Ну, милый Саша, всё подвигаюсь помаленьку, вот уж скоро и Пермь, скоро, и нет 1300 верст из 7700. (До Благовещенска не 9000, а 8322 верст от Петербурга.) Повторяю то же, что писал из Нижнего, что дорога отзывается на мне хорошо, что я здоров, — нет безобразной скуки, которая гонялась за мной по Питеру, да душила в Никольском. Если бы… да разве в жизни будут минуты, когда не будет слышно этого если бы? разве я не повторял бы этого если бы, живя в Петербурге?.. Я надеюсь, что мы расстались ненадолго, скоро свидимся, только, ради Бога или, лучше, ради тебя самого, береги себя, простудишься, — так и ехать нельзя будет; а вот я узнал, что около Иркутска есть горячие серные воды, и что эти воды помогают от ревматизма, по крайней мере очень помогли тому [человеку], который говорил мне это; для тебя замечу, что он очень бережет свои ноги, ходит в шерстяных чулках.
На пароходе есть несколько сибиряков, народ всё хороший, один из них иркутский житель, едет теперь в Иркутск, а прежде бывал и на Амуре и в Благовещенске. Вот что рассказывал он: что мой выбор прекрасен, что Николаевск и сравнить нельзя с Благовещенском, климат очень хорош, местность ровная, горы уходят во внутрь; теперь туда погнали и скот, и быков, и свиней, и птицу всякую, и им должно быть там привольно — огромные луга. Сообщение с Иркутском удобно, но только летом, а потому он советовал мне не засиживаться, а спешить, даже по возможности не ночевать, «не то, — говорит, — вы всего натерпитесь и накупаетесь в Амуре и доедете хоть и без опасности, а за то со всякими неприятностями»; лед идет около середины октября, как я и говорил. Жаль, что я опоздал немного, но делать нечего, проскакать 4000 верст до Иркутска, не ночуя и не останавливаясь в городах, — невозможно для меня; впрочем, меня утешают скорою сибирской ездой и говорят: «только не засиживайтесь в Иркутске». — «Да я не больше недели…». — «Ну, так еще доедете». Иные утешают: «Да вас оставят в Иркутске» — я бы этого не желал. Впрочем, если бы я и не поспел вовремя, то лучше дождусь прочной дороги, чем пускаться наудачу. — В доказательство сношений с американцами меня потчевали прекрасными сигарами, привезенными оттуда и купленными в Казани за бесценок; конечно, у жида, контрабанда.
Из Перми я, как знаешь, обещал писать Леонтьеву [1] и напишу, только едва ли что из этого выйдет, я начинаю убеждаться, что про жизнь сказать что-либо после беглого обзора трудно, — нужно иметь знакомых, чтобы пользоваться их рассказами, а туристские заметки в губернском городе едва ли могут быть интересны в журнале. Впрочем, в Перми у меня есть знакомый, с которым я виделся 10 минут у решетки банка, но который знает меня, — С.-Лоран, я говорил тебе, посмотрим, что за личность, не может ли он быть полезным.
Пермь, 6 августа
Сейчас отправляю письмо Леонтьеву [2]. Пожалуйста, недельки через две, три по получении этого письма, зайди в Редакцию (близ Ивановского монастыря, в Большом Трехсвятительском переулке, д. Клевезаля) и справься, какой исход, напечатают или нет. Если напечатают, то я прошу выслать мне экземпляр «Современной летописи» на 1862 г. в Иркутск, я пищу об этом в письме, а ты напомни. Кстати, узнай имя и отчество Леонтьева, и отпиши, а то я в большом затруднении, как адресовать, пишу в редакцию «Р[усского] В[естника]» [3], г. редактору Леонтьеву. — Что было писать ему? Я написал и про дорогу от Казани, и про Пермь, что она прескучный город, и про цены (дороги) и про растительность (очень бедную). При этом извинился недостатком материала.
Помнишь, я говорил тебе про тарантас в Перми? Я здесь уже два дня, бьюсь, чтоб достать тарантас, но все или большие — на 3 лошади, а попутчика нет, не могу запрягать больше двух лошадей или гадость, которая доедет не далее Екатеринбурга. Ехать на перекладных все отсоветывают, — при такой езде я должен буду ночевать, а я должен спешить что есть мочи. Может быть, однако, я куплю один тарантас, есть на примете. Уеду отсюда не ранее как завтра.
Вечером
Спасибо С.-Лорану, помог чрез своего друга бат[альонного] ком[андира], прислал мне мастерового, тот обнюхал весь тарантас, открыл в нем недостатки — и достоинства. Недостатки исправимы, а потому тарантас поправят и я покупаю его. Бедный солдат старается, ему сказано, что из Иркутска я буду писать Сен-Лорану, какова была работа, а потому надеюсь, тарантас будет хорош. Стоит 48 р. да поправка 12, итого 60 р. Как я ни ежился, а пришлось взять. Едучи на перекладных, пришлось бы ночевать каждый день. В тарантасе, ну хоть через день или два, а мне это важно — надо спешить. Потом не говорю уже об удобствах, здесь пермские кибитки, в которых надо сидеть так или колотиться головою в верх. И то и другое нестерпимо. Попутчика нет, уж я ли не старался, все буквально (штук 7–8) гостиницы изъездил и всё без толку; недели через две их будет бездна, а ждать нельзя. Завтра непременно еду, л после обеда. В Иркутске надеюсь быть около 13 сентября. Пиши непременно в Иркутск (уже не до востребования). Пиши. |
 |
П. Кропоткин
Дорогой знакомлюсь с купцами, собираю сведения об Амуре, — сведения самые разнообразные, как и прежде, иные говорят: теперь, однако, лучше. Завтра пойду на Сибирскую пристань расспрашивать.
Саша, пиши больше! До свиданья, слышишь?
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 97, л. 47–48 об.
Переписка. Т. 2. С. 33–35 (с неоговоренными пропусками и многочисленными неточностями; текст восстановлен по оригиналу).
Примечания
1. Павел Михайлович Леонтьев (1822–1874) — филолог, член-корреспондент Петербургской АН (1856). Один из основателей журнала «Русский вестник» (1856), с 1863 г. — соиздатель (вместе с М.Н. Катковым) газеты «Московские ведомости».
2. Первую корреспонденцию из серии «На пути в Восточную Сибирь», помеченную «Пермь. 6 авг. 1862 г.» см.: Современная летопись. — 1862. — № 34. — С. 30–31.
3. Литературный и общественно-политический журнал «Русский вестник» с осени 1857 г., как и газету «Московские ведомости» с 1863 г., возглавляли М.Н. Катков и П.М. Леонтьев. Обе редакции располагались по одному адресу; более того — «Современная летопись», в которой печатались корреспонденции П.А. Кропоткина, до 1862 г. была приложением к «Русскому вестнику», а с 1863 г. стала «воскресным приложением» к «Московским ведомостям».
Омск, 19 августа 1862 г.
Вот, милый Саша, всё подвигаюсь, вот и Омск. Я уже проехал на почтовых от Перми, около 1500 верст из 3800 до Иркутска. Как видишь, недалёко и до полдороги, а я еще не устал, не измучился, а, напротив, чувствую себя здоровым, как нельзя лучше, и усталости еще не чувствую большой, даже, признаться, никакой. И отчего ее чувствовать? В Перми я купил себе тарантас, который, после некоторых поправок, оказался очень порядочным, в нем трясет не слишком-то сильно, гораздо меньше, чем на перекладной, — изредка ночую, напр., в Екатеринбурге, Тюмени, Омске, да, кроме того, если уж очень спать хочется да Петров [1] очень уж устал, так сплю часа два на станции, и как сладко прикурнешь на деревянном диване.
От Перми до Екатеринбурга мы все переваливали через Урал: горы, густые сосновые боры из-за сизого тумана, заводики по горам выглядывают из-за лесов, — вот общая физиономия этой дороги. По ней сплошь тянутся обозы с чаем, хлопком. Ночью обозы ночуют около дороги, беспрестанно виднеются костры, черные фигуры около костров… Тут что-то вроде шоссе, везут хорошо. Одно было плохо — целую неделю почти, после того, как я выехал из Перми, лил, не переставая, дождь, — перестанет на несколько часов, прояснится небо, явится какая-нибудь мохнатая гора на горизонте, и снова все затянется дождем, в роде петербургского тумана. В Екатеринбурге я переночевал и утром же выехал, только рещики надоедали, притаскив[ая] кучи каменьев [2].
Что, брат, сказать про то, каковою показалась Сибирь? Обманула. Ведь с детства учат нас про сибирские тайги, тундры, про степи, а мы под именем степи сейчас рисуем себе Сахару с ее песками. А тут выходит совсем наоборот. До Тюмени еще и несколько за Тюменью действительно тянутся безотрадные болота: едешь по гати, а кругом густая, высокая трава, но не сунься в нее — сгинешь, так и втянет в тину. По болоту растет мелкий березняк, пересохший большей частью. А за Тюменью начинается благодать, да какая: чернозем, какого я никогда еще не видал, тучность почвы такая, что трава ли вырастет в поле, так в аршин вышиною, да густая такая, что муравью, кажись, не пролезть, камыши ли в болоте, так так и видна и в них сила, рослость. А хлеба, овсы такие, какие: что ли в Тамбове родятся такие. Страна богатая, каждый крестьянин пашет до 25–40 десятин, и какие урожаи! Везде довольство, скота много, корм дешев, и человеку также дешево жить. Петрова на постоялых дворах кормят чуть не даром, за бесценок. Чистота, опрятность, щегольство в одежде… Лошади (кони, как их зовут) прекрасны, сытые, пузатые. При дурной дороге в тарантас, где сидим двое, да пудов 8 клади, который обыкновенно возит пара, запрягают четыре, пять, даже шесть лошадей! А прогоны — за пару. Зато же и возят; живя в России, не составишь себе понятия об такой езде. Вот, брат, какова Сибирь!.. Дивная страна!..
Теперь начались степи, кругом не видно им конца: луга да пашни. Народ умный, веселый, смотрит тебе прямо в глаза, не дичится, работящий, славный народ!..
Из Тюмени, 14 августа, я еще написал Леонтьеву. Справься, пожалуйста, напечатают ли. Тебе я не писал оттуда вот почему. Приехавши, принялся писать Леонтьеву и прописал до 2-х ч. ночи. Утром снова принялся доканчивать [3]. Провозился часов до 11-ти, необходимо ехать, я и решил, что напишу из Ишима. Но дорога до Ишима была так отвратительна; дождь лил ливмя, дороги размыло, просто ехать нельзя, а если уж ехать, то шагом. И вот я делал станции по 33 версты по 7½ ч., между тем как обыкнов[енно] езда здесь 2½ часа. Оказалось, что я сильно опоздал в Ишим против расчета, я и проехал его, не останавливаясь.
Вот уже 3 дня, как дожди перестали, солнце печет (а по утрам морозы), днем тепло, дороги просохли, и я еду прекрасно, скоро, покойно. Со мной едет какой-то господин, довольно интересный, с убеждениями, поэт, музыкант, не глуп и хорошо знает Сибирь. Мы сидим вместе в тарантасе, (Петров к нему в кибитку) и едем болтая; время проходит незаметно.
Из Томска еще напишу. Я спешу кончить, потому что надо написать еще по нескольку слов отцу и Е[лизавете] М[арковне], а надо спешить ехать: Амур и льды на горизонте. Прощай.
П. Кропоткин
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 97, л. 47–48 об.
Переписка. Т. 2. С. 37–39 (с мелкими пропусками и многочисленными неточностями; текст восстановлен по оригиналу).
Примечания
1. Слуга П.А. Кропоткина.
2. Екатеринбург был центром сбыта всевозможных поделок из камня — вазочек, подсвечников, печаток и пр.
3. Второе письмо серии «На пути в Восточную Сибирь», помеченное «Тюмень. 13 авг. 1862 г.» см.: Современная летопись. — 1862. — № 36. — С. 30–31.
Томск, 25 августа 1862 г.
Вчера я приехал, Саша, в Томск, — мы ехали довольно скоро, не ночевали, а спал я в тарантасе, и спал очень порядочно. Теперь в Томске делается привал, сутки или немного более, сегодня же вечером еду дальше. Вот, Саша, ты так боялся за здоровье, а здоровье как лучше и не надо, — дорога вовсе не так ужасна, одно не совсем хорошо в иных отношениях, — всё полнею, всё платье придется переделывать. У меня нашелся попутчик, едет на перекладной почти с одинаковой скоростью, как и я, мы и присоседились, — днем он садится в мой тарантас, на ночь порознь. С ним ехать не скучно, — он всё болтает, рассказывает про свои любовные похождения, — средние между материализмом и идеализмом. Человек, несмотря на свои 30 лет, еще не испортившийся, верит во всё хорошее, мечтает сделать многое (например, в горах, в Минусинске, основать свободное, независимое от царя общество), конечно, он фантазирует, но фантазирует недурно. Он довольно хорошо знает Сибирь, Иркутск, Корсакова [1] и его окружающих, и рассказывает много интересного. И вот мы едем довольно незаметно, теперь до Иркутска осталось не более 1500 верст. Теперь вопрос в том, останусь ли я в Иркутске, или поеду в Благовещенск. Этот господин уверяет меня, что Корсаков оставит непременно при себе, чтó довольно вероятно. Но, кажется, в Благовещенске у Буссе [2] не хватает адъютанта, и меня, пожалуй, пошлют туда. Не знаю, что будет лучше. Конечно, состоять при Корсакове гораздо лучше, чем при Буссе, тут скорее удастся разъезжать повсюду, побываю и на Амуре, и, пожалуй, в Китае etc., а то, говорят, что Буссе добрый, но недалекий человек, немец (русский, конечно), а ты знаешь, как я им симпатизирую. Впрочем, что об этом загадывать, это решится в Иркутске, так как там, вероятно, встречусь с Корсаковым, а не на дороге, как сперва думал.
Сегодня же пишу Леонтьеву, справься и напиши, печатают ли. Если не печатают, то вытребуй назад и, по собственному усмотрению, реши, годится — отдай куда знаешь, ну хоть в «Сын Отечества», там будут этому рады и что-нибудь заплатят, — если нет, не годится, — так черт с ним. Это уже 3-е письмо: из Перми, из Тюмени и из Томска [3]. В этом письме я пишу ему, что за дивная, богатая страна Сибирь, а я еще еду не самым югом. Что же на юге, если и здесь так богато! Вот где со временем будут действовать, где образуется самостоятельное государство, кто знает, может быть, на новых началах. Богатейшая сторона!
Пиши, пожалуйста, как дела на Руси, пиши подробнее, в случае надобности знаешь, как писать *[4]. Твоих писем я не нашел в Омске, да и не могли быть. Тогда там была получена почта только от 28-го или 29 VII. В Иркутске, верно, будут. Чем дальше, тем больше я убеждаюсь, что дорога — моя сфера; одно нехорошо: подчас хочется почитать серьезного, позаняться — и нельзя. Знаешь, что мне в голову пришло, — мне бы хорошо было быть странствующим актером, это по мне, все те, с которыми я схожусь, замечают во мне актерские способности.
Впрочем, я глупости тебе пишу. Меня теперь сильно занимает вопрос, как бы устроиться скорее, чтобы ехал, это будет, кажется, не очень трудно, а потому я утешаюсь тем, что скоро увидимся.
Прощай, Саша, не сердись за безалаберность.
П. Кропоткин
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 97, л. 157–159.
Переписка. Т. 2. С. 42–43 (с многочисленными неточностями и мелкими пропусками; текст восстановлен по оригиналу).
Примечания
1. Михаил Семенович Корсаков (1826–1871) — генерал-губернатор Восточной Сибири, наказной атаман Забайкальского казачьего войска. Корреспондент Кропоткина.
2. Николай Васильевич Буссе (1828–1866) — начальник штаба войск Восточной Сибири, первый военный губернатор Амурской области, образованной в конце 1858 г.
3. Третье письмо из серии «На пути в Восточную Сибирь», с пометой «Томск, 25 авг.» см.: Современная летопись. — 1862. — № 38. — С. 10–12.
4. Намек на конспиративный способ переписки — с помощью листка-маски с прорезями. Вероятно, он применялся братьями еще в детстве. См. также письмо А.А. Кропоткину от 8–10 декабря 1862 г.
*Руки чешутся, когда читаешь про Гарибальди да про сербов. — (прим. П.А. Кропоткина).
Иркутск, 7 сентября 1862 г.
Саша, душка, третьего дня (5-го) приехал я сюда и, предвидя, что от тебя должно быть письмо, сейчас же, пообедавши, поехал на почту. Конечно, я не ошибся —получил твое письмо от 28/VII. Меня бесит то, что ты так обо мне беспокоишься, а я себе еду наиздоровейшим, без разбойников и прочей дряни, которую ты себе рисуешь. Ради бога, друг, не беспокойся. Я тебе говорил не раз, что дорога — моя сфера, это оправдалось. Я так раздобрел, что терпел невыносимую пытку, когда должен был одеться — до того узко всё платье; теперь пришлось все переделать. Доехал я, как лучше не надо, ведь это только издали кажется так дурно, а поверишь ли, если бы предложили сегодня же снова пуститься в дорогу, обратно в Москву, сейчас же бы поехал, так мало утомила меня эта поездка. Человек удивительно ко всему привыкает, и, проехавши первые сотни верст, чувствуешь себя уже в своей тарелке.
Я сейчас от Губернатора. Везде прием прекрасный, и дела идут очень хорошо. Вчера я являлся к Корсакову, сегодня обедал у него. После обеда он отозвал меня: «Ну, Кропоткин, скажите, какая действительная причина вашего приезда на Амур» Я объяснил: «Желание быть полезным, найти деятельность, невозможность найти такую в Гвардии, невозможность выполнить свое намерение быть в университете», — одним словом, сказал всё в нескольких словах. Он думал, что, м.б., меня прислали за либеральничание. Я отстранил это предположение. «Нет, что ж, если бы и так, то тем лучше, там эдакие люди не нравятся, а здесь мы ими очень довольны, давайте побольше». — «Ну-с, а теперь вам нельзя будет добраться до Амура, трудно, парохода не застанете, я думаю, что вам лучше будет в Чите (главный город Забайкальской области). Зиму вы там пробудете, а весной вас отправят со сплавами на Амур. Буссе посердится, что мы у него отняли такого офицера, ну, да весной вы перед ним оправдаетесь. Кстати, Амур гораздо интереснее весной». — Я поблагодарил. — «А вы человек со средствами, имеется свое?» «Имею, немного». — «Ну, вот оно и хорошо, сразу со сплавами, тут идут рационы хорошие».
Когда я представлялся, я сказал, что Михаил Николаевич [1] писал, чтоб попроситься, чтоб мне не дали засидеться в столице. «Ну, видите, — не засидитесь, а поверьте, еще всех своих обгоните». Но вот что хорошо. Губернатор Забайкалья, Кукель [2], — превосходнейший человек по отзыву всех, молод, артист, отлично играет и поет, и вообще мне очень понравился, тихий, ровный, простой. Отсюда до Читы 750 верст, а что такое 700 верст. Ты, живя в России, и не в состоянии себе представить, что такое 700 верст в Сибири: во-первых, это дело 3-х, много-много 4-х дней; во-вторых, как-то применяешься к расстояниям; знаешь ли, сибирские барышни мне рассказывали в Томске, что они ездят на 2 недели потанцевать в Омск, «а вот бы, — говорят, — хорошо съездить в Иркутск хоть на месяц или на несколько недель» И отец повторяет: «Да, не худо бы, вот посмотрим». А от Томска до Иркутска 2000 верст. Заметь главное — это «съездить» за 2000 верст.
Конечно еще лучше бы было состоять при Корсакове, он что-то намекнул на это: «через несколько времени». Тогда можно бы съездить и в Якутск и еще куда-нибудь, вообще познакомиться с краем. Офицеры, которые при нем, говорят, что редко приходится пожить дома, — всё в разъездах, и разъезды интересные, — чего же лучше.
8 сентября
Вот тебе одна заметка про здешнюю жизнь, — здесь гораздо бесцеремоннее, проще, чем на Руси, и несравненно вольнее позволяют себе выражаться, — большое влияние, говорят, имели политические ссыльные, которым здесь хорошо, приняты везде с огромным участием. В Чите их должно быть еще больше, это город, возникший из поселений декабристов. Особенность Восточной Сибири — это куча бродяг на дороге. Очень часто останавливается такой бедняк и кричит: «Добрые люди, подайте несчастному на дорогу», другие, посмелее, довольно настоятельно просят милостыню у проезжих купцов, а то беспрестанно видишь, как один или два оборванных человека бросаются в сторону в тайгу, завидев издали экипаж. Крестьяне любят их и помогают, и так как явно боятся подавать милостыню, то, увидевши бродягу издали, кладут краюху хлеба за оконце, нарочно полочка сделана. Впрочем, много между бродягами и таких, которым нипочем придушить человека, но они редко нападают на проезжих: они их боятся, — разве только чемодан отрежут, да ограбят какого-нибудь старика, собирающего на церковь, и, случается, убьют за десяток рублей, — впрочем, убийства редки, а воровства у проезжих часты. Про бродяг есть довольно поэтические песни, я постараюсь записать.
Про Читу говорят, что климат такой же, как в Иркутске, т.е. сухой (там снега почти нет), почта ездит из Верхнеудинска до Читы всегда на колесах; конечно, бывают холодные дни, очень даже холодные, но без ветра, а сегодня я еще у Льюиса читал, что при 55° С можно ¼ часа держать руку на воздухе без боли, между тем как при ветре и при 0° больно. В Иркутске, особенно в Чите, редки пасмурные дни, и в самые большие морозы всегда светит солнце.
Как видишь, климат недурен. Нынешнее лето замечательно везде по страшному холоду и массе дождей. В Иркутске и Забайкалье, наоборот, жара, засуха страшная, так что поэтому, если б теперь я ехал на Амур, то не застал бы парохода, сильное мелководье, и последний пароход уже ушел, тогда я должен был бы ехать на лодке, и, кажется, сперва Корсаков, чтобы дать мне возможность лучше добраться, хотел послать меня курьером, но Кукель говорит мне: «я вас к себе вербую, мне порядочные люди нужны». Кукель мне нравится, а потому я и еду к нему в Читу.
Прощай, Саша, не беспокойся о моем здоровье, оно хорошо, это, вероятно, действие сибирского климата, который очень здоров. Прощай, пиши.
П. Кропоткин
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 97, л. 160–163 об..
Переписка. Т. 2. С. 43–46 (с многочисленными неточностями, неоговоренной правкой и мелкими пропусками; текст восстановлен по оригиналу).
Примечания
1. Великий князь Михаил Николаевич (1932–1909), брат императора Александра II, с 9 февраля 1860 по 6 декабря 1862 г. был главным начальником военно-учебных заведений Военного министерства.
2. Болеслав Казимирович Кукель (1829–1869) — генерал-майор, в 1862 г. военный губернатор Забайкальской области и наказной атаман войск, с 1863 г. — член Совета Главного управления Восточной Сибири и начальник штаба войск Восточной Сибири.
11 сентября 1862 г.
Саша, душка, перешли это письмо Александре Павловне, Полинькиной гувернантке. Вот в чем дело. Ты знаешь про Лидию — я говорил тебе. Она меня не забыла, а наоборот, сколько я узнал из письма Елизаветы Марковны. Вот и прошу Александру Павловну достать ее карточку: во-первых, она очень милое создание, во-вторых, своей милой личностью оставила во мне очень приятное воспоминание, а я, как тебе, кажется, известно, дорожу своими воспоминаниями, особенно приятными, одним словом, карточка ее доставила бы мне много удовольствия, она же даст ее Александре Павловне, — вот я и прошу ее переслать мне в Иркутск. Если послать письмо прямо отсюда, то почтовый штемпель возбудил бы подозрение, отец распечатал бы письмо и разболтал бы Кошкареву и другим, что не совсем приятно, а потому попроси какую-нибудь знакомую женщину написать адрес:
Ее благородию
Александре Павловне Добрицкой,
В город Мещов, Калужской губ.
А оттуда прошу переслать в имение Кн. Кропоткина, Село Никольское. Твоего имени в письме не имеется для безопасности, на случай, если бы отец распечатал письмо.
Тебя удивит, что конверт запечатан, но, Саша, я такие глупости пишу там, что, ей-ей, мне совестно, чтоб ты читал, копию дам после. Ты, кажется, тоже испытывал это чувство.
Я писал тебе два дня тому назад и напишу скоро, до отъезда из Иркутска, где пробуду еще дней 5, чтоб ехать вместе с Кукелем, у которого я исполняю обязанности адъютанта, так как его адъютант уехал в Петербург курьером, а потому ничего не пишу тебе о себе.
Прощай, не вини меня в неоткровенности, не сердись за глупость.
П. Кропоткин
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 97, л. 164–165 об.
Переписка. Т. 2. С. 48.
Иркутск, 14 сентября 1862 г.
Саша, дружок, посылаю тебе 50 р. Ты опять запоешь старую песню; в ответ на нее скажу, что деньги у меня есть, я на Амур не еду, прогоны, следовательно, могу употребить, ты про шпоры знаешь, успокойся, куплю отличные шпоры, манильские, которые здесь очень дешевы.
В Иркутске я еще пробуду, пожалуй, неделю. У Кукеля я исполняю обязанности адъютанта, являюсь к нему каждое утро, чтоб написать две–три бумаги, остальное время (с 9 до 1 часу) сижу и читаю что-нибудь или болтаю с теми, кто к нему приходит. Чем дальше, тем больше схожусь я с Кукелем и убеждаюсь, что он пресимпатичная личность, играет на фортепьяно, я думаю, что зимою будет хорошо, у него жена прехорошенькая, — всё веселей. Вообще здесь живут не так, как в России, я уже писал тебе. У Кукеля получаются всевозможные журналы, в том числе и «Колокол». У него живет некто Дадешкилиани [1], грузин, славный человек, у него тоже всё прочтешь. «Колокол» выдается при Кукеле, — как хочешь — заслуга не велика, положим, но нам дико видеть превосходительного генерала в таком роде, — отзывается на всё хорошее, и действует так же; например, у раскольников в Забайкалье поп с его ведома (впрочем, это знают все) служит по старым обрядам, и он этому радуется. Его девиз: «всякое насилие есть мерзость». Он его проводит в жизнь, да еще с какой юношеской энергией. Все преобразования в Восточной Сибири, все идут через Корсакова и в широких размерах, например, по вопросу об уничтожении казачества в Забайкалье для уравнения его в правах с остальными, дарования им самоуправления — всё работает Кукель. Везде почти есть библиотеки: в Иркутске, в Чите, в Кяхте… Одним словом, лишь бы удалось устроить твой перевод сюда, надеюсь худо не будет.
Но, Саша, как ты проживешь до этого времени? Как поправишь ты свое здоровье?.. Саша, брось пить, ты портишь себя этим, не хвались своим здоровым пищеварением, смотри — отзовется, и разве это для тебя уж такая потребность?
Ну, должен кончать, — иду к Кукелю. Напишу еще, как только приеду в Читу.
Прощай, П. Кропоткин
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 97, л. 168–169 об.
Переписка. Т. 2. С. 49–50.
Примечания
1. Дадешкилиани был адъютантом еще у Н.Н. Муравьева-Амурского.
Иркутск, 15 сентября 1862 г.
Саша, милый мой, дорогой! Одно за другим получил я твои два письма — от 6 и от 14 августа. На первое я только что ответил и послал на имя Вани 50 р. На второе надо ответить подробнее. Саша, ты неправ. Ты говоришь, что не чернишь себя. Пожалуй, но смотришь на себя неверно. За что ты называешь себя «ничтожным, лишним человеком, без толку населяющим нашу незавидную планету»? За что?.. Ты говоришь: «кто назовет подобных мне людей не лишними?» А я спрашиваю: кто смеет назвать таких, как ты, — лишними?.. Я чувствую, что если ты уж назвал себя Рудиным, то я становлюсь Лежневым, но мне до этого дела нет. Послушай, разве ты своей жизнью, своими словами, своим примером — не дело делаешь… Ты, честная, благородная душа, что бы ты там ни толковал, за что на себя клевещешь? «Неспособность к глубокому чувству»? А любовь к человеку? К добру? — Да знаешь ли ты, сколько раз ты будил меня этим, знаешь ли ты, что ты меня плакать заставлял, заставлял оглядываться на самого себя? Что ты меня делал лучше! И с другими, верно, то же делал, хотя я и не знаю. И еще спрашиваешь — что такое «умные и честные порывы», не видишь разве, что они — те же дела.
Ты, может быть, скажешь, что время таких деятелей прошло, что Рудин давно умер. Но он свое поколение будил, — ты, честная душа, будишь свое. Тогда были нужны Рудины, — теперь они точно так же нужны. Если уж тебе угодно сравнивать себя с Рудиным, то знай, что ты Рудин нашего поколения, что ты не тот Рудин, ты не фразер, как он, что ты от него далеко ушел вперед. Рудин с летами становился хуже, а ты, я думаю, станешь лучше, горячки меньше будет, горячка нужна будет для подвигов, и тогда она явится.
Ты сам себе цены не знаешь, ты такой человек, к которому на шею кинуться хочется, чтобы рыдать…
Разве я говорю, что твоя участь завидная… Я на твое письмо смотрю беспристрастно, молчу об увлечениях, но ты слишком себя унизил…
Черт возьми, я не в силах писать, ты поймешь меня с полуслова.
Прощай.
П. Кропоткин
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 97, л. 166–167.
Переписка. Т. 2. С. 50–51.
18го ноября 1862
Господину Директору Пажеского Его Императорского Величества Корпуса, Генерал-Лейтенанту Озерову
Сотника Амурского Конно-Казачьего войска, Князя Кропоткина
Рапорт
Честь имею донести Вашему Превосходительству, что 3го октября сего года я прибыл в областной город Читу, где и остаюсь, на основании распоряжения Господина Исправляющего должность Генерал-Губернатора Восточной Сибири, — Генерал-Маиора Карсакова, до весны будущего года при Штабе Господина Исправляющего должность Военного Губернатора Забайкальской области Генерал-Маиора Кукеля, по Амурским делам; с тем, чтобы быть отправленным на Амур весною будущего года со сплавами.
При чем честь имею присовокупить, что в городе Иркутске я должен был пробыть более трех недель, так как исполнял там обязанности Управляющего Путевою Канцеляриею Генерал-Маиора Кукеля.
Чита, 6го октября 1862го года.
Сотник Кн. Кропоткин.
РГВИА. Ф. 318. Оп.1, ч.2. Д.1810, л. 384.
Чита, 14 октября 1862 г.
Третьего дня получил, Саша, твое письмо. Я в Чите уже со 2-го октября. Я ехал с Кукелем в тарантасе, чудном, покойном, лежал лучше, чем на своей постеле под мягким песцовым одеялом, летели стремглав — 650 верст в 52 часа, а Кукель так хорош, так симпатичен, что с ним ехать было бы весело и не двое суток. Говорил я с ним в дороге об месте для тебя. Но он в Чите только временно, я тоже, что же делать. Он говорит, тебе бы в Глав[ное] Упр[авление] или уж в Обл[астное] Упр[авление] Иркутской области, а где я еще буду… Как тут быть? Кукель может устроить для тебя место в Чите, но к тому времени, как только можно будет получить твое прошение о принятии на службу хоть в Читу, Кукелю нужно будет уезжать отсюда, а я весною отправлюсь на Амур. Останусь ли в Благовещенске? Едва ли… Я не знаю, что и придумать?
Я живу у Кукеля в доме. Он упрашивает меня оставаться, но мне хотелось бы для своего удобства жить на своей квартире, а квартиры пока нет. Чита — деревня, где еще в 1852 г. была голая степь, теперь город, даже церковь только одна, а общество препосредственное, впрочем я мало знакомлюсь, — всё дома сижу, семья у Кукеля чудная, жена, мать жены, еще бодрая старушка, хорошие люди, дети стали моими друзьями. Но я несколько стеснен, их жизнь такова, что мало времени остается для самого себя, а теперь еще утро бывает не занято службой, я ничего не делаю, собираюсь писать по разным вопросам управления и излагать мнение Кукеля по делу обращения бурят (кочующих) в оседлое положение. Прежний губернатор хотел поселить их на землю во что бы то ни стало, а бурята дали приговор, что не хотят, нужно доказывать правоту их дела и несостоятельность насильственного переселения.
Долго в Чите я не буду, скоро, верно, пошлют, — Кукель пока еще не трогает, дает осмотреться, а на днях чуть-чуть не послали за 500 верст, на китайскую границу по какому-то делу, — однако уладилось.
Я здоров, не хандрю, а скучать никогда не скучал, и следовательно ты напрасно обо мне печешься. Меня только одно смущает, — ты с своим положением. Мое письмо из Перми напечатано, я видел и получил «Современную летопись», за эту страницу уже получил 8 р. А письма из Тюмени, Томска, Иркутска и из Читы (об Иркутске) все довольно длинны, ты получишь за них что-нибудь. К декабрю, надеюсь, соберется что-нибудь — жалованье, порционные, да от отца, — тогда можно будет поделиться. Саша, ради бога, только не пей, да береги себя. Да перестань ты себя величать лишним человеком, — не такие были лишние люди, я писал тебе об этом, получил ли ты мои письма? Из Иркутска я послал их четыре, начиная с Нижнего это 9-е.
Прощай, спать хочется. Уже 2 часа ночи, а я сегодня устал.
П. Кропоткин
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 97, л. 170–171 об.
Переписка. Т. 2. С. 54–55.
8 ноября 1862 г.
Не все твои письма дошли до меня. Пропало, видно, одно, где ты писал о Гарибальди и России и писал, что мое письмо из Перми напечатано. На днях я получил твое письмо от 18/Х, где ты пишешь про предыдущее письмо, снова про женитьбу и т.д. Причина этому та, что письма адресованы в Иркутск, а там залеживаются, даже пропадают. Та же история происходит и с «Современной летописью».
9 ноября
Вчера получил предложение ехать, я поеду завтра снова к Байкалу, за 650 верст, в Кабанскую волость; недели через три я должен вернуться в Читу, если ничто не задержит. Дело, по которому я еду, очень недурно. Есть здесь Жуковский [1], губернатор Забайкалья, а теперь, за отсутствием Корсакова, председатель в совете Главного Управления Восточной Сибири. Личность, о которой напишу когда-нибудь подробнее… в письме нельзя говорить о нем…
У него есть родственник, мерзенькая личность, заседатель одной волости, громадной — больше русских уездов. Этот господин делает мерзости, и Кукель посылает меня производить над ним ревизию [2]. Одним словом, ревизию над гражданским чиновником производит офицер. Не правда ли, странно? Чтобы не было странно, я назначен Испол[няющим] должность адъютанта при Кукеле.
Вообще я очень рад этому делу, хотя, с другой стороны, иные обстоятельства и удерживают меня в Чите. Например, хотя бы театр и, наконец, некоторая привычка. Но я охотно еду туда. Дело интересное, к тому же дорога, новые лица etc.
Ну, Саша, начинается применение на практике моих убеждений. Каково-то удастся?
Вот и деятельность, и я с радостью принимаюсь за нее.
Не беспокойся, если с месяц не будешь получать [писем]. Если удастся, будет время между разъездами по селениям волости, — напишу. Тогда это тебе будет сюрпризом. Тем лучше. Но раньше месяца не жди писем.
Прощай! У меня дела много, а времени мало, а потому не взыщи за коротенькую писульку.
Прощай, дружок!
П. Кропоткин
Продолжать ли писать на Леночкино имя?
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 97, л. 170–171 об.
Переписка. Т. 2. С. 57–59.
Примечания
1. Евгений Михайлович Жуковский (1814–1883) — генерал, в 1860–1861 гг. военный губернатор Забайкальской области и наказной атаман Забайкальского казачьего войска.
2. П.А. Кропоткин был командирован для расследования жалоб жителей Кабанской волости на жестокое обращение верхнеудинского заседателя Марковича (родственника генерала Е.М. Жуковского). Кропоткин собрал много обличающих фактов, но Маркович, имевший покровителей в Петербурге, был вместо наказания переведен исправником на Камчатку, где разбогател на каких-то темных делах. Будучи в отставке, в 1880-х годах писал патриотические статьи в консервативных газетах.
С. Кабанское, 24 ноября 1862 г.
Милый Саша, поручение свое я кончил и завтра еду назад в Читу. Письмо это отправлю из Верхнеудинска. Милый мой, ты здоров ли; странно, глупо говорить про сны, но вчера я целую ночь всё тобой бредил, рыдал во сне, — приснилось, будто ты убит на дуэли, будто тебя расстреляли, и прочая чушь. Целый день ты сегодня не выходишь из головы, и подчас такие мелочи припоминаю из нашей прошлой [?] детской жизни, такие подробности, которые, может быть, и несколько лет не припоминались. Впрочем, конечно, это пустяки, происходящие от какого-нибудь несварения желудка (так, кажется, объясняется чрезвычайное обилие снов), пусть так, но именно эти-то пустяки заставляют подчас живее сознавать разлуку, сильнее желать скорее свидеться… А между тем, как это устроить? Ты, кажется, не слишком-то хотел бы сюда попасть, и чем больше знакомлюсь я со здешнею службою, тем больше я становлюсь в тупик, какое место могло бы быть по тебе. Везде по статской службе нужна работа, и сильная работа, так как людей мало, и на одного человека взваливают то, что в России делают четверо. Потом беспрестанные разъезды, — нужно же угодить во все места хоть своего участка, а участок с ¼ Франции!.. На сидячих местах — писать, писать!.. — Ведь здесь во всех присутственных местах пишут по вечерам с 4-х до 8-ми часов.
Попасть [чиновником] по особым поручениям… у отдельных губернаторов нет таких мест, а к Корсакову трудно. Да потом, куда мне придется ехать? И это неизвестно. Если Корсакова не утвердят, Кукель не останется, а вместо него будет ужасная личность, тогда, конечно, лучше всего в Благовещенск. Если утвердят, то несравненно лучше быть при Кукеле, тогда следовательно в Иркутске. Итак, ничего нельзя решить, и решительно теряюсь, что делать?.. Кукель тоже, если не высказывает этого, то думает.
Приходится положиться на время. Авось… да легко ли это «авось»?
Ну, а я тут свое поручение кончил. Пришлось столкнуться с сибиряком, с его хитрой увертливостью… Приходилось по двум делам договариваться. Заседатель участка, — совершенно русский исправник (только величина его участка гораздо больше русского уезда) сек тут крестьян, баб, девок и т.п. Надо было доискаться, как было дело, чтобы вывести на чистую воду. Кое-как удалось, но чтоб добиться доверия, боже, сколько надо провозиться, — непременно стараются скрыть, — ведь своего же брата высекли, да как? — жестоко до крайности. «Вот таких-то секли? Ну, спрашиваешь, сколько дано ударов?» — «Да може 25», — когда знаешь наверно, что этой бабе дали до 150 ударов, и ведь сколько провозишься, чтобы добиться правды. Впрочем, в тех деревнях, где приходилось пробыть подольше, целый день, под конец удавалось добиться доверия и разболтаются… а там, где можно было пробыть часа два, не более, — просто беда, — не видали, да не были, не знаем.
Иногда же выдадутся и смелые люди, — придет, сядет и начнет тебе рассказывать, хоть об споре своем заспорят тут же, а потом обращаются: «ну-ка, разбери-ка, Ваше Благородие», — и размахивают руками, воодушевляются; но это редкое исключение.
Был я и на месте провала, который сделался у берегов Байкала после землетрясения, только всё замерзло, занесено снегом, удары землетрясения и до сих пор еще слышны, вчера были слышны, говорят, но я не почувствовал, потому что в это время горячо толковал с заседателем, так как он сунулся толковать об своих убеждениях… Меня взбесило это: гуманность на языке, а дерет баб и молодых женщин за ссоры и драки, я и наговорил ему самым вежливым образом самых милых вещей, так что из-за этого, вероятно, и не почувствовал «трясения земли», как говорят здесь.
Тут мне пришлось порядком-таки поездить по разным деревням. Но, несмотря на сильные морозы, не приходилось даже зябнуть сильно, — так, немножко, но не больше, как сколько нужно для того, чтобы с аппетитом напиться горячего чая. Я разъезжал в полушубке и дахе, сшитой из диких коз, шерстью наружу, это не тяжело и тепло.
Завтра вечером я собираюсь выехать в Читу; приехавши, напишу вскоре, а теперь прощай.
П. Кропоткин
Леонтьеву я писал около 12 > ноября, не знаю, писал ли тебе об этом.
Нельзя ли писать прямо на твое имя? Оно бы лучше.
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 97, л. 179–181 об.
Переписка. Т. 2. С. 59–61.
28-го ноября я вернулся в Читу, просидел несколько дней над писанием отчета, рапорта о своей командировке, не успел опомниться, и вот снова еду отсюда, а именно завтра утром, выехал бы и в ночь сегодня, но не успели приготовить нужных бумаг.
Я везу деньги, нужные для сплава, в Шелапутино, верст триста отсюда, по тракту на Нерчинск и Нерчинский завод, до которого, впрочем, не доеду.
Я очень рад этой поездке, так как она в другую сторону, чем последняя в Кабанск, и интереснее. Дней через 5 вернусь назад.
Поездки мне все впрок идут, я чувствую себя отлично, здоров и не хвораю печенью, не хандрю, а, напротив, чувствую себя хорошо.
Не взыщи, что пишу мало. Теперь около трех часов утра, а я всё писал, так как весь вечер просидел у Кукеля. Прощай.
П. Кропоткин
Послушай, мне поручают предупредить переводчика приветствия твоего мне на новый год «Брось свои иносказанья» etc. — а то плохо, один человек пакостит, — как узнал из писем [1].
1 декабря 1862 г.
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 97, л. 182–183.
Переписка. Т. 2. С. 61–62.
Примечания
1. Речь идет о поэте М.Л. Михайлове, сосланном в 1861 г. на каторгу. «Один человек» — очевидно, генерал Е.М. Жуковский. Подробности поездки несколько подробнее изложены в письме А.А. Кропоткину от 8 декабря 1862 г.
Чита, 8 декабря 1862 г.
Милый мой, дорогой, как только я приезжаю из командировки, сейчас спрашиваю, есть ли письма, а на этот раз прямо пошел к правому углу стола, и, конечно, письмо от тебя. Твои письма я чаще всех других читаю, да они одни только и радуют, хоть от них подчас и сгрустнется, да с грустью этой как-то легче и лучше. Впрочем, есть еще письма, которые тоже с радостью получаешь — это от двух товарищей по корпусу, но таких писем я всего два получил, следовательно, о них почти и говорить нечего. Письма же от отца не представляют ничего веселого, гадко, перевернется на душе, читая их, и не дочитанные бросишь их…
Впрочем, наш отец теперь в поэзию пускается о своем одиночестве в Петровском [1]. Черт знает как драматично переплелись наши жизни, точно черт какой всё это связал себе на потеху, а нам на распутывание.
На отца надежда плоха, — за глаза всякие обещания к черту, снова желчность при слове о тебе, жалобы на свое отчаянное положение, пишет, что и выехать совестно из Тамбова, потому якобы без денег, одним словом, вывод тот, что денег на переезд едва ли даст. Надежда плоха — разве на двойные прогоны, да летом приехать. Но что такое двойные прогоны? Можно кое-что сэкономить, да очень немного. Я просто теряю надежду. Женитьба? Но ты упускаешь главное из виду. Ты никого не любишь. Но ты можешь полюбить кого-нибудь и сильно. Надеюсь, при этих словах ты не улыбнешься недоверчиво. Ты помнишь, как я в былые времена высокопарно отзывался о любви, но теперь я убежден, что это вещь совершенно естественная, вполне объяснимая даже при крайне материалистическом и математическом воззрении на мир, и вдобавок подтверждается фактами. Ты можешь полюбить девушку не настолько развитую, как сам. Не смейся, но кто знает, быть может, ты решился бы жениться в таком случае. Ты знаешь, что я считаю брак величайшей глупостью (по тем формам, которыми обставило его законодательство), хотя не спорю, быть может, и я был бы в состоянии сделать эту глупость, но часто не иметь возможности сделать этой глупости может быть страшно мучительно. Подумай, как ты себя связываешь. А кто поручится, что твои воззрения на это дело не изменятся со временем? Ручаться невозможно. Подумай. Ничего я не пишу тебе утвердительного, но что же делать.
Драматизм! В общем скверно. Всем тяжело, даже и отцу. Да, стоит о нем подумать — и нам скверно, и ему скверно, и даже мачехе и той скверно. А как же скверно всем окружающим. Надо же было сложиться такой путанице!..
Мне теперь даже совестно за письмо к Добрицкой, это можно было выкинуть только в Иркутске по приезде, при известной обстановке. Обдумав, я теперь не сделал бы этого. Но интересно мне знать, каким образом из всего этого ты вывел, что я тебя очень люблю. Тебе скорее следовало бы посердиться на меня.
Но, Саша, ты опять по-прежнему говоришь об этих глупых деньгах. Тебя не переспоришь… Но, право, я тут не вижу никакой игры в великодушие, так как великодушия-то никакого нет, только недоверие с твоей стороны, нежелание поверить мне на слово, что мне тут нет никакого стеснения, отказывания даже в необходимом. Всегда до известной степени можно приноровиться к имеющимся средствам. 50 р. разницы не составляют. Ну, да и не хочется снова поднимать этого вопроса, мы говорили о нем с тобой на разных языках, в этом мы не сходимся, не во всем же быть deux tetes sous un bonnet [2].
Третьего дня я вернулся из своей поездки. Понял ли ты raison véritable[3] этой поездки и вспомнил ли свое приветствие на новый год? Как видишь, — у меня не всё же служба деловая, бумажная. Я всё сделал, очень удалось, впрочем, нисколько не из-за меня, а по обстоятельствам, которые сложились вообще хорошо.
Тебя, верно, удивит такая метеорная поездка, но это в Сибири не кажется странным. Разве только кто-нибудь меня спросит: «Что это вас не было видно несколько дней — не были ли нездоровы?» — «Нет, я ездил». — «Ничего, скоро вернулись, да дороги теперь рекой хороши». — Я ездил верст за четыреста отсюда и вернулся, пробыв в дороге ровно 4 суток, уехал 2-го, вернулся шестого около 3-х часов. При этом сделал еще одно дело, отвез деньги, пробыл там несколько часов, а по дороге заезжал еще к знакомому [4], у него часа четыре пробыл. Две ночи даже спал по нескольку часов. Зато езда здесь бешеная: станция в 40 верст делается в 2 ч. 33 м. Из своей поездки я почти не вынес никакого впечатления, или, вернее, знакомств, только два–три уголка бросились в глаза своей красотой, когда, случайно приподнимая свою меховую шапку, в щелку между ею и башлыком я взглядывал на окрестность. Судя по этим уголкам, можно сказать, что местность донельзя хороша. Горы крутые, отвесные, скалы, с трещинами и заметными наслоениями отрог гор, которые я знал лишь по рисункам, да леса, леса, вплотную нагроможденные над рекою, несколько в высшей степени эффектных розово-лиловых освещений в горах, — вот всё, что я вынес. Про население даже сказать не могу — кто живет, так как по станциям судить нельзя. Морозы были ужасные, но я не зяб, иногда зябли несколько ноги по собственной незаботливости, или, вернее, неопытности, а сам вообще не мерз, так как мороз сопровождается безветрием и доха отлично предохраняет от холода. Я здоров, не хандрю, а потому, видишь, с этой стороны твои беспокойства напрасны, а что же до дела и «дел», то не могу пожаловаться на недостаток. Приехавши из поездки в Кабанск, пришлось отдавать отчет, писать громадный рапорт (впрочем, литературного повествовательного вида). Едва успел я его кончить в 4 ночи накануне своего отъезда, эту работу я делал охотно, за этим была защита прав крестьянина, слишком молчаливого, дающего себя бить и драть ни за что, ни про что. Только я приехал, назначен производителем дел по здешнему приюту, тут будет поскучнее, но зато и дела немного. Сегодня занимался писанием, — как тебе понравится, описанием бывшей здесь сельскохозяйственной выставки. Это даже забавно при совершенном моем незнании здешнего хозяйства. Но дело в том, что отчет написали такой, что хоть брось. Сегодня Кукель просил меня поправить изложение этого описания. Оказалось — всё хоть брось. Кукель не знал, что делать. Ничего не оставалось, как взять все это на себя. Я взял [5]. Кроме того по приюту надо устраивать разные сборы, вечер и т.п. Немножко пришлось поработать и по новому городскому устройству. Одним словом, дело будет и можно найти довольно интересное.
Мое же дело, занятия — собственные, в отличие от казенных, надо сознаться, не очень-то усиленны. Вся обыденная, ежедневная жизнь складывается так, что для них остается очень немного времени, и заниматься ими приходится урывками. Вот почему ты ошибаешься, полагая, что я бы не бросил карьеры для жизни где-нибудь на юге, на воле, я и там не остался бы без деятельности, я стал бы учиться, а учиться многому еще хочется. Математика меня особенно интересует, не сухою своей стороной, а живою, в теориях, в приложениях к той науке, которая не переставала меня интересовать, — астрономии, и сама по себе была бы моей деятельностью. А то с моей охотой странствовать я не могу найти для себя ничего кроме интереса новизны, тогда был бы интерес науки, если б я больше знал. Я бы стал учиться… Но время уходит, пропадает привычка к учебному и ученому труду, еще несколько времени, и это будет трудно осуществимо. Я предвижу это, знаю, что это будет, и покоряюсь, стараясь чтением по возможности вознаградить невознаградимое, стараюсь обращать внимание на жизнь человека, на характер страны, вероятно, то же будет, если я буду бродить со временем и по другим странам. Мой прежний идеал — серьезные научные занятия, приходится разбить его последние осколки. Труд мой будет бестолковый, отрывочный, разбросанный, но я готов трудиться, и я рад, если могу принести хоть тут микроскопическую пользу, пользу хоть по службе частью своими заметками. Но все-таки повторяю: чувствую отсутствие специальности и сознаю я это беспрестанно, это нехорошо, верно, отзовется и на всю жизнь.
Я читаю, но очень мало сравнительно с тем, сколько читал прежде. Что же делать! Переделать обстановку не имею возможности. Занятия: перевожу Эгмонта Гёте, я не совладал еще и с последней сценой (с которой начал), но я нахожу ее до того хорошей, что всегда принимаюсь за эту работу с особенным удовольствием. Далее Араго, последний том Куно Фишера, который читаем вслух с Кукелем, да еще до своей поездки занялся я просматриванием «Космоса» — французского журнала за 1862 г. Нашел там довольно много очень интересных вещей, между прочим несколько подтверждений моих задушевных мыслей, а именно — подчинение всех отраслей знания (положительно) математическому анализу. Я говорил одному доктору, что до тех пор медицина будет ощупью бродить в потемках, пока не коснется ее математика. Но как? Мог ли я мечтать — как?
Вообще из «Космоса» я узнал довольно много о движении научных вопросов, и на будущий год непременно абонируюсь на этот журнал.
Ну, еще что сообщить о моих занятиях: английский язык лежит, заброшен и подвигается довольно туго. Скучно, это нужно с учителями, как я изучал латинский с Классовским [6].
Ну, прощай, пиши, теперь я думаю несколько времени остаться на месте, поездок не предвидится, а потому и я скоро опять буду писать.
Прощай.
П. Кропоткин
Пойдет 15-го.
Получил ли ты листик с прорезами? [7] Не зная наверно, я не рискую писать, а то кое-что можно бы написать преинтересное.
Я адресую это письмо на твое имя на квартиру Вани, чтоб письмо в случае приезда отца в Москву не попало к нему в руки.
Только что получил Гершеля… Очень, очень тебе благодарен за него.
Хотя многое взятое со мной еще не прочтено, но этому (Гершелю) отдаю предпочтение перед остальными.
2-й том особенно показался интересным, новое что-то и, вероятно, понять можно будет.
Ну, а вот тебе несколько сведений на будущее время, практических при пересылке, — больше заворачивай в бумагу, холст употребляй толще. Гершелю посчастливилось, а то, судя по тому, в каком виде я получал первые книги Annales et Psychologie от Гесселя, можно было предположить, что из Гершеля должны были дойти одни лохмотья, К счастью, он цел, за исключением перетертых краев. Литографии в нем очень хороши, не попортились, обыкновенно в Annales портятся сильно при пересылке; нужно класть тонкой, лучше почтовой бумаги между ними. Вообще же состояние удовлетворительное. Очень тебе благодарен за него.
Да, еще совет: не пиши карандашом, — то, что ты написал на оберточном листе, совершенно вытерлось, разобрать можно только отрывочные слова, между прочим, что письмо к Добрицкой ее застанет, да еще что-то такое про 21, 22, 23 октября, да поклон Василия. Кланяйся ему, пожалуйста, от меня и скажи, что он купил очень хорошую книгу (не экземпляр), мастер выбирать, что я благодарю его за это и за книгами пускай ходит, а водку пусть не носит — это для тебя и пр.
Прощай, мой друг.
П. Кропоткин
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 97, л. 184–192.
Переписка. Т. 2. С. 62–68.
Примечания
1. Петровское — село в Тамбовской губ. Борисоглебского уезда, где находилось имение отца, впоследствии унаследованное братьями.
2. заодно, единомышленниками — (фр.).
3. истинную причину — (фр.). «Истинной причиной» поездки было стремление Б.М. Кукеля предупредить сосланного на каторгу поэта М.Л. Михайлова о том, что на Казаковский прииск, где он жил у брата, заведовавшего этим прииском, едет жандармский полковник А.А. Дувинг. Дувинг был немаловажной персоной — он возглавлял Управление Иркутского жандармского штаб-офицера, в октябре 1862 г. он уже был на прииске, когда арестовал там приехавших из Петербурга Н.В. Шелгунова с женой. П.А. Кропоткин в своем дневнике писал, что преследование М.Л. Михайлова было во многом результатом происков «мерзавца Жуковского», который действовал «из желания пакостить без всяких инструкций свыше» (Кропоткин П.А. Дневники разных лет. — М.: Советская Россия, 1992. — С. 88. Запись от 29 ноября 1862 г.). Заметим уж заодно, что конфликты жандармского начальства с администрацией в тех областях и губерниях, где она осуществлялась военными, были не только обычным, но и закономерным делом.
4. Это был полковник Федор Федорович Ольденбург (1827–1877), командир одного из полков Забайкальского казачьего войска.
5. Отчет был издан в Иркутске. См.: Описание первой Забайкальской выставки сельских и других произведений, бывшей в Чите в 1862 г. (Сост. по поручению комитета о выставке, сотником Амурского казачьего войска кн. Кропоткиным). — Иркутск, 1863. — 55 с.
6. Владимир Игнатьевич Классовский (1815–1877) — филолог, переводчик, профессор Петербургского университета, учитель русского и латинского языков в нескольких гимназиях, потом наставником-наблюдателем по русскому языку при военно-учебных заведениях. Именно в этой немного странно звучащей должности он читал лекции воспитанникам Пажеского корпуса, когда там учился Кропоткин.
7. Видимо, такой листок братья Кропоткины использовали в детстве для «конспиративной» переписки. Очевидно, в 1862 г. А.А. Кропоткин такого листика не получал, и последующие письма братьев писаны обыкновенным образом.
Чита, 21 декабря 1862 г.
Саша, и у тебя хватает духу в конце письма ставить вопрос — не надоел ли ты мне. Нехорошо.
Но ты неправ к самому себе. Нет, ты не отжил свой век! Помни, что ты за деятельность еще не принимался. Но скажи, пожалуйста, неужели ты был бы бесполезен, если бы тебе представилась деятельность прямо в жизни? Быть может, на первых порах ты не совладал бы с жизнью, наделал бы ошибок, увлекся бы, к счастью не в первый раз, но знай, что ты мог бы быть полезен, а это уже значительный шаг вперед от твоего теперешнего бездействия. Саша, ты почти ни с кем не видаешься, а это возможно только тому отшельнику, который уже пожил, да зарылся в книги, тому, который имеет перед собою только свою святую науку, который сделал в ней что-нибудь. А ты один, всегда один, еще не живши…
Теперь только я сознал, что сделал, но, ради бога, не брани меня — я был слеп, я не знал тебя таким, каким ты был. Когда твои письма стали делаться короче, все короче и короче, я себя винил в том, что отстал, и утешался тем, что серьезнее изучу то и то, — я все-таки знал тебя больше по письмам, ты был в моих глазах вечным тружеником для науки — я тебя настоящего не знал.
После твоего письма я стал думать о том, как писать тебе о дифференциальном исчислении.
Мне пришла мысль: быть может, получая мои письма с изложением математических основ, ты стал бы заниматься. Но, думал я, что же арифметику, геометрию писать, тут бы я ничего не написал более простого, чем есть в учебниках. Я задумал заинтересовать тебя прямо с дифференциального исчисления, излагая те истины из алгебры, которые тебе понадобились бы. Я попробовал, но приходилось делать отступления на каждой строчке, немножко бы самых элементарных понятий с твоей стороны, и ты меня стал бы понимать, оно довольно ясно улеглось в моей памяти, а вдобавок есть еще книги хорошие, может быть, что-нибудь и вышло бы.
Начинать с дифференциального исчисления, может быть, и показалось бы тебе трудно, но оно интереснее алгебры, а потому ради интереса от времени до времени ты выслушал бы мои алгебраические заметки. Но разных отступлений нужно столько, что страница состояла бы из 5 строк самого текста, остальное — объяснения.
Но где же исход? Общество? Но пустое общество не удовлетворит тебя…
22 декабря
Теперь несколько начинает определяться положение. Корсаков остается, следовательно, мне придется, вероятно, жить в Иркутске. Впрочем, вопрос о том, буду ли я в Благовещенске или в Иркутске, еще не решен.
А на недостаток материалов для деятельности грех пожаловаться. Теперь мне дано одно дело, огромное и очень важное. Думают уничтожить телесное наказание. Для уничтожения телесного наказания потребуется заменить его тюремным заключением; число тюрем, а также их устройство придется изменить совершенно, для этого потребуется определить до мельчайших подробностей состояние здешних тюрем, а здешние тюрьмы важнее, например, тульских, так как сюда ссылают новых ссыльно-каторжан до 800 и более. Средства к улучшению, как изменить систему тюремного заключения и пр., и пр., требуются практические указания от разных лиц. Каково? Мне, совершенно незнакомому с состоянием тюрем, даже с законами по этому предмету, пришлось учиться с азбуки, т.е. с устава о ссыльных, и собирать сведения о том, какие здесь имеются тюрьмы. Я бы никак не взялся за это дело, но было бы бессовестно не взяться, так как я вижу, что больше некому поручить, а ведь это вопрос серьезный. Я взялся (так как дело очень интересное). Потом мне предлагали быть производителем дел в новом комитете о городском устройстве, — я отказался, чтобы не погнаться за тремя зайцами. Как видишь, была бы охота работать, работа есть.
Прощай, друг! В следующую почту пишу Леонтьеву, вероятно, будут помещать уже в воскресные прибавления к «Московским ведомостям».
П. Кропоткин
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 97, л. 193–196.
Переписка. Т. 2. С. 69–70.
1863
Чита, 13 января 1863 г.
Вот уже несколько почт прошло, а от тебя нет писем, и я задаю себе вопрос: что с ним? здоров ли? Утешаюсь только тем, что, может быть, не получает давно от меня писем, а у меня был, кажется, в 1-й половине октября такой перерыв. Верно поджидает письма и оттого не пишет. Вот когда так несколько времени писем не получаешь, начинаешь сознавать, как далеко находимся мы друг от друга. Впрочем, теперь и период такой подошел, что какая-то неохота думать, делать, признаюсь, — заваливает работа, для себя ничего не успеваешь делать; поверишь ли, при всем моем желании Гершель лежит на 60-й странице, журналов тоже не читаю, из своих работ только кончил последнюю сцену «Эгмонта».
Впрочем, я иногда задаю себе вопрос: чем же та работа, хоть по тюрьмам или по городскому устройству, — нехороша?
Тоже и дела, да не затрагивают они так за живое, как астрономия, как механика. Когда иногда с грустью развернешь начатый перевод и видишь, что кончить его не успеешь, разве-разве разделаешься с Сибирью (но, сказать по правде, если мне и придется оставить Сибирь, то сделаю это я не без сожаления — страна хорошая и народ хороший).
На днях мне вздумалось пересматривать исписанное мною. Я просто удивился, когда увидал, какие это составляет массы, и потом сколько еще писем и бумаг собственноручно написанных, так как писаря нет. Это просто меня озадачило: когда я это все успел сделать?
Не сердись, что пишу так мало, роятся мысли, да как-то не ложатся на бумагу, до другого времени. Прощай, друг!
П. Кропоткин
Поцелуй за меня Леночку много, много раз. Скажи ей, чтó она не пришлет мне своей карточки, право, порадовала бы она меня. Не так давно я писал ей — получила ли она письмо?
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 97, л. 197–198 об.
Переписка. Т. 2. С. 71–72.
Сегодня в ночь я еду в Брянкино (село), оттуда в Стретенск (это верно), по сплаву. Не пишу ничего, потому что не в состоянии.
Снова промежуток в письмах, из Брянкина напишу.
П. Кропоткин
14 июня 1863 г.
Какое зрелище! Но только здесь, увы
Одно лишь зрелище, для глаз лишь упоенье…
Как бесконечность уловить творенья?
А вы, сосцы природы, — где же вы?
Где вы, источники всей жизни той чудесной,
Которой держится земля и свод небесный?
К вам грудь иссохшая в тоске обращена,
Вы льете жизнь обильною волною,
Вы всю вселенную питаете собою, —
И только лишь душа моя одна
Бесплодной жаждою сожженна! [1]
Природа не для всех очей
Покров свой тайный поднимает,
Мы все равно читаем в ней,
Но кто, читая, понимает?
Лишь тот, кто с юношеских дней
Был пламенным жрецом искусства,
Кто жизни не щадил для чувства,
. . . . . . . . . . . . . . .
Над суетой вознесся духом
И сердца трепет, жадным слухом,
Как вещий голос изловил [2]
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед.хр. 97, л. 264–264 об.
Примечания
1. И.В. Гёте. Фауст. Пер. Э.И. Губера (?)
2. Д.В. Веневитинов. «Поэт и друг». Пропущенная строка (Венец мученьями купил), возможно, объясняется тем, что отрывок записан на память.
[10 июля 1863 г.]
Ну, Саша мои предположения о плавании на Амуре совершенно не оправдались. Я думал сесть в Сретенске на катер и в особую каютку, ехать себе и плыть — и разве время от времени помогать начальнику сплава (порядочному человеку). Вышло не так. Приехал в Сретенск утром, пробывши в Чите всего 3 суток, собрался наскоро, приехал и узнал, что грузят на одну баржу и дают ее мне, чтобы догнать другой рейс (4 дня как ушел) и сдать ему. Самому потом на лодке плыть в Благовещенск, где наш сплав подождет меня. Баржу, мол, уже грузят; я уперся, впрочем, без намерения совершенно отказываться, потому что с кем же отправить этот груз, а его надо отправить. Уперся, пускай, мол, лучше обставят отправку, лоцманов найдут и т.п. А то в самом деле, за что я бы получил порционные.
Ну, отправился. Народ славный, лоцмана хорошие, — плывем отлично. Но «своего» делать ничего нельзя. Уйдешь в каюту, слышишь, наверху суетятся, наконец, на одном станке лоцман был так себе, места нехорошие, бросает баржу (ведь она плывет силою течения) то на один берег, то на другой, справа утес, слева утес, пришлось грестись носовым и кормовыми веслами во сколько хватит сил. Целый станок я греб со всеми, да еще на предыдущем пришлось поработать, да еще как… А конечно, если работаешь в серьезную минуту, то необходимо навалиться с страшным напряжением, чтобы других одушевить, только после удалось отдохнуть, т.е. сидя в люке каюты, поглядывая на ход баржи, читать.
Пробовал читать Гершеля, решительно невозможно. Действительно, я вообще работал с азартом, и рабочие заметили это. А я заметил, что если подойду к какому веслу, так после 2-го удара оно начинает перегребать, — в такой азарт входят рабочие вместе со мной (это тебе для лучшего узнания меня); жаль — силы нет, а она нужна.
Мне ужасно не хотелось идти с одной баржой. Хорошо, если баржа не садится на мели да на камни. Но если она села, ты совершенно без помощи; когда идет целый рейс, на котором 150–200 человек, это не страшно, сила берет и сталкивает. А с одной баржой? 10 человек ничего не сделают.
Несчастье меня преследует на сплаве. Баржа засела на мель, стали стаскивать, притащили несчастных казаков из деревень соседних (человек 15). У них покос, а тут баржу снимай, — и это каждый год. Тащили, толкали, ничего не помогло, разгрузят сотни пудов на лодку, баржа пойдет и еще больше врежется в косу, нагребет перед собою ворох каменьев. Пришлось работать много, лезть в воду, толкать. Но главное не в этом, меня начинает мучить всё это, злость берет на свое бессилие, на беспомощность, на плохое знание, как делать, но этого и сравнить нельзя с тем, что я испытывал, когда баржа села в первую поездку. Там я вовсе не знал, как поступить, действовал наудачу, хотя и попал верно, но тогда мне казалось, что, может быть, и не так следовало бы, а тут только не знаешь всех хитростей, а их много. Там я истерически плакал от «Дубинушки» — нелепая песня с грустным, страшно однообразным мотивом:
Ох, дуби-и-нушка, ох те,
Ох, зеленая са-ма пойдет.
У-ра-а.
Куплетов много, они все бессвязные, вот несколько:
Камчадалки воду носят
А казаки ети просят.
Все — Ох, дубинушка…
Камчадалочки красивы,
Чаю, сахару просили.
Все — Ох, дубинушка…
Ка-ак баржа на мель стала,
Али сил у нас не стало.
Ох.......
Ох, ребята припотели,
Выпить водки захотели.
Ох.......
Отцы наши командеры
Проебли свои мундиры.
. . . . . . . . . .
не знаю
Проебли шапку, рукавицы.
А как Катя Невельскова
Поддавать была здорова,
Поддавай, да поддавай,
Ох, зеленая сама пойдет и т.д.
Как только устанут, сейчас опять запоют: «как ребята припотели»… Целые сутки провозились на этой мели, спасибо догнал Малиновский [1] с людьми, а главное с лодками, так что разгружать можно было скорее.
Да, Саша, тут приходится прямо иметь дело с народом, и поневоле становишься в тупик. Что будешь делать?
Не помню, писал ли я тебе это, но вот что: я грузился в Сретенске, работали хорошо, полюбили меня даже, но лишь только перепились или даже по большой рюмке выпьют, — ничего не сделаешь. А то случается так: баржу несет на мель, а он себе котелок переставляет или еще ложку запускает за кашей. Хорошо прикрикнешь, — бросит и пойдет, но и пойдет-то как неживой, ведь он привык (конечно, далеко не все, но вот хоть тот народ, который был у меня на барже, рабочие с гавани), что его подгоняют часто без толку, чтоб последние силы не пропали, и главное все палкою, плетью. Поэтому на слова он неподатлив, брань любит, ей-ей так: ругнешь, уверяю тебя — работа лучше идет. Много тут значит то, что изнуряют его страшной работой, хоть, например, при стаскивании барж, — ведь усилия страшные нужны, и это часто на рассвете, часто раннею весною…
11 июля
У кого что болит, тот про то и говорит, — оттого я так и расписался о сплаве. Теперь я отдыхаю, — лоцман надежный, и сегодня, отчаливши в 3 часа утра, я опять залег и раз только должен был вскочить, когда заслышал сильную суетню, — отгребались справа от камня, слева от мели.
Я фантазер, а потому не раз задумывался о том, как мы с тобой заживем. Сказать по правде, я думаю, нам будет не худо. Тебя, вероятно, оставят либо в Иркутске, либо в Чите, и я постараюсь быть с тобой. Средства будут, а потому и книги будут. Я не теряю надежды на то, что это не долго продолжится, а там — время не уйдет — мы молоды с тобой, и не может же быть, чтобы 3 года сибирской службы испортили человека. Ты вот пишешь о поэтическом наслаждении природою и о зависимости этого наслаждения от знаний. Еще бы. Но мне кажется, мы с тобой в наслаждении природой немного расходимся. Ты ею наслаждаешься через любовь, что камешек привык, полюбил место, — столько любви в этом спокойствии. Я наслаждаюсь другой стороной, — красотою, которая царит во всем, во всем решительно, и особенно наслаждаюсь тогда, когда обстановка (зима, весна) подходит именно к этой красоте. Я писал тебе про Кругоморку, как там хороши некоторые места, но палящее солнце не идет к голому утесу, засыпанному крутой шапкой снега. Темные коридоры в ущельях мне доставили большие наслаждения, тут шла глухая темная ночь, дикая песня бурята и рев, ярость, сила потока. Я сперва думал, что это зависит от диких красот здешней природы. Отчасти. Я, точно, наслаждаюсь нивами, лугами, но тут наслаждаюсь гармонией, красотой мягкого луга, мягких очертаний холмиков, покатостей. Выдайся этот луг так, что на горизонте или поблизости горы, утесы, бурливая река и горы, заросшие лиственницей, — нехорошо; тут и река должна быть в мягких берегах, и гор не нужно (покатости нужны), иначе гармония нарушена. Далее: вой ветра в трубе, передвижение тени от луны, постоянный шум из отдушников, щелканье часов, напр., в Корпусе (в галерее), — все это заставляет меня задумываться о вечной неустанной работе — жизни во всем, в токах воздуха, в разложении камней, я переношусь к речке, к передвижению камешков, к размыванию рекой одного берега, с тем, чтоб на другом намыть широкий луг, пойму, и т.д.
А то спал я как-то под утесом на большущих камнях, вдруг поодаль треск, валится камень, плеск воды, и снова роятся думы о жизни, о разрушении гор, деревьев, разломанных кустов, трав, о том, какие усилия должен употребить куст, чтобы снова ожить, сколько кустов погибнет, чтоб прожить одному… Недавно я читал в «Русском вестнике» статью «Цветы и насекомые» Рачинского и увидал, что Дарвин наслаждается этим, — вот мы и сошлись с тобой.
Мне кажется, я выражаюсь неясно.
Вчера вечером приехал в Благовещенск, вечером же ездил на ту сторону к китайцам, благо случай был.
Хотел я писать тебе кое-что о происхождении видов, но вот 5 суток как ехал на лодке, сдавши баржу кому следует. Забот было меньше, но больше физической усталости, больше невозможности что-нибудь делать. Жарища такая, что (а уберечься от нее невозможно на лодке) я не в силах был что-нибудь делать, да и время было мало. Я взял всего 6 человек на большую лодку, больше не было, ну и приходилось двум грести постоянно, а мне чередоваться на кормовом весле с третьим и грести время от времени верст по десяти. Какая тут возможность работы? Мне до того опротивела лодка с ее жарой, оводами, мошками, что теперь тебе трудно понять, как я радуюсь моей двухаршинной комнатке и двухаршинной кровати, столу и возможности писать тебе; только я скоро кончу, надо бы подготовить письмо Леонтьеву об Ингоде, Шилке и Амуре; только из Благовещенска уж не успею отправить ни в каком случае, — письмо еще не написано, а мы отвалим сегодня.
Я много и давно думал о происхождении растительных и животных видов, когда приходилось заглядываться здесь на растения и на насекомых. Меня всегда смущала неопределенность понятия «вид», ведь многие различно определяют его; мне казалось, что самое определение если не исключает, то затрудняет возможность доказать, что один вид может переходить в другой: казалось, что чуть только будет несколько признаков таких, что можно бы признать их за промежуточный переход, как уже говорят — это отдельный вид. Но вы покажите переходную форму между видами; опыты, производство промежуточных форм прямым совокуплением, — нелепость; непременно следовало бы ставить животное в схожие (но не совсем) условия, дать ему жить и плодиться в этих условиях, потом снова изменять условия понемножку и т.д. Опыты продолжались бы сотни лет, но они могли бы приводить к каким-нибудь результатам. Для опыта надо бы брать животных, которые живут на земле сравнительно недавно и скоро и много плодятся, выбирать из них согласно заданной цели, а не брать собак и т.п. Насекомые и растения скорее привели бы к цели. На насекомых особенно я засматривался; здесь я вижу тех же насекомых, что и в России, но вид у них совсем другой, напр., уховертка, ты их знавал в Никольском; здесь они с крыльями, и то не все, рога на хвосте длиннее, у иной растут только крылья, цвет желтее. Положительно не поверю, чтоб все разнообразные породы собак, одичавши, пришли к тому первообразу, от которого когда-то произошли, и много таких мыслей. Я слишком мало, даже вовсе не знаю фактов, а письмо твое кстати, и все, что ты напишешь о происхождении видов, будет для меня интересно.
Однако, прощай. Теперь буду писать чаще.
П. Кропоткин
Когда-то еще пойдет письмо, — чуть ли не 1-го, здесь почта ходит 2 раза в месяц.
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 97, л. 274–284 об.
Переписка. Т. 2. С. 119–124 (с купюрами «неприличных» мест в песне; текст восстановлен по оригиналу).
Примечание
1. Малиновский — начальник сплава, чиновник особых поручений при амурском губернаторе.
1 августа 1863 г. около Хабаровска
Плыву я по-прежнему на катере. Спокойно и хорошо, сплавной работы никакой нет, работаю над «своим», да разъезжаю по станицам, чтобы что-нибудь написать про них, это еще отнимает несколько времени. Страшная жара, а вентиляции, как в палатке, так и в комнате, нельзя устроить, а потому иногда до изнеможения доходишь; ночью работать тоже нельзя, — комаров боишься, а они летят на огонь, ну, да днем не заснешь, жарко, а то бы днем я спал, а ночью работал. Всячески теперь недурно. Я написал и сегодня отправил с попавшимся навстречу пароходом — до Благовещенска — письмо 11-е Леонтьеву о реках Ингода и Шилке [1], об Амуре пишу, скоро примусь переписывать, но письмо недлинное, 3 листа, это будет длиннее. Гершеля кончил только теперь первый том, и тут беда: 2-й в чемодане, а чемодан на лодке, которая должна была идти с нами, но отстала и пропала без вести, нагонит, пожалуй, не раньше Николаевска, я уже читаю «Kosmos» Гумбольдта, 2-й том, да перевожу арифметику Серре. Я взялся за это дело с одним офицером в Чите. Напечатаем через Сеньковского [2], будет 10 печатных листов. Если удастся, то дело будет очень хорошее, пустим, конечно, по своей цене. Ведь наши арифметики черт знает что за мерзость! У Серре великолепно изложена теория чисел и сокращенные методы над приближенными числами.
Ведь теперь я читаю больше, чем сколько мог читать зимою, в Чите. Я кончил Гершеля первую часть. Кончал бы вторую, да он на лодке, которая отстала. У меня только и есть, что «Космос», читаю еще Гёте. Еще у Малиновского есть Куно Фишер 1-й том, я читаю изредка отдельные главы (он сам читает). Я прочел главу «Математический метод в приложении к философии у Спинозы». Меня поразило сходство его миросозерцания с моим во многих чертах. С другой стороны, К. Фишер говорит, что Кант создал новое миросозерцание, которое развило и опровергло учение Спинозы. Меня очень интересовало бы знать, как и в каком произведении Спиноза говорит, что так как всё в мире происходит вследствие вечных законов, то нечего и винить человека за то, что он поступает так, а не иначе, и потому как будто отвергает понятие нравственности. Так. Но отчего нравственный поступок доставляет нам удовольствие? Отчего большинство находит в нем что-то хорошее? Оттого, что так привыкли смотреть? Но откуда явился такой взгляд на нравственный поступок? Мне кажется, оттого, что в нем есть Красота — красота, т.е. простота и стройность в отношении тех законов, вследствие которых он произошел. Отчего же созерцание красивого, создания, наслаждение им возбуждает в нас охоту поступать нравственно? Ведь создание-то красиво только вследствие простоты отношений тех математических законов, на котором оно построено (доказано для архитектуры, музыки, живописи).
Я выражаюсь коротко, почти намеками, потому что уверен, что ты поймешь. А то скоро свидимся, потолкуем. Я все не понимаю, про какие чудеса ты говоришь и какие могут быть чудеса, которые необъяснимые явления, одни — для людей, менее сведущих в науке, для совершенных невежд, другие для людей, знающих хотя бы результат всех исследований по всем отраслям.
Пароход показался. Надо пользоваться случаем…
П. Кропоткин.
Качка, просто писать нельзя, такая буря, катер так и прыгает себе по волнам, а по Амуру волны большие, вроде морских, платье попадало с вешалок.
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 97, л. 285–286 об.
Переписка. Т. 2. С. 124–126.
Примечания
1. См.: Кропоткин П.А. Из Восточной Сибири: село Хабаровка, 3 авг. 1863 г. (Амур) // Современная летопись. — 1863. — № 44. — С. 12–14.
2. Николай Алексеевич Сеньковский (1826–?) — поручик Кавказского саперного № 1 батальона, прикомандированный к Пажескому корпусу. Издавал журнал «Книжный вестник», занимался распространением книг в качестве комиссионера и содержателя библиотеки в Петербурге.
Иркутск, 4 октября 1863 г.
Ты, вероятно, чертовски давно не получал от меня писем. Я писал тебе из Благовещенска, потом из Хабаровска, — ты верно не получил. Проплыл я 16 станков за Хабаровск и вернулся назад курьером с донесением о разбитом сплаве. Скорее меня никто не мог ехать, следовательно и писать было нечего, так как я сам бы повез письма. В Чите останавливался только на несколько часов, а в Иркутске я с 1 октября. Не писал 3 дня, дожидаясь чего-нибудь положительного о себе. Вчера меня назначили чиновником особых поручений при Корсакове, я остаюсь здесь. О тебе получили бумагу и, черт знает почему, послали спрашивать меня, желаю ли я, чтоб ты служил. Бумага разошлась со мною. Теперь начальник штаба говорит мне: «Ваш брат просится сюда». — «Знаю».— «Согласно ли это с вашими намерениями?» — «Конечно, согласно, да, наконец, удивляюсь, отчего вы спрашиваете?» Сегодня он говорит мне: «Так как теперь вы имеете место здесь, то не лучше ли зачислить вашего брата сюда в Иркутский полк?» — «Ответ послан?» — «Нет еще, теперь на днях посылаем, вашего ответа ждали». Я сказал, что решительно все равно, лишь бы вместе быть.
Только как же ты зимою поедешь?
Сроку тебе дается 6 месяцев на проезд, а ехать надо не более полтора месяца, так что, пожалуй, придется тебе выехать не раньше как весной. Оно бы ничего и зимой ехать, конечно покойнее, но не знаю, я никак не могу уберечься от холода. Едучи сюда, не мешает приобрести экипаж, это даже необходимо, если только будут деньги, это не будет в убыток, но даже можно иметь барыш небольшой. Только надо умеючи выбрать экипаж, а тебя надуют, тогда лучше всего сделать, как я, т.е. сходи в Перми (если будешь покупать в Перми) к тому господину, у которого я был (у тебя в письмах найдется его адрес, фамилия Сен-Лоран, я вспомнил). Он дал мне тогда кузнеца из гарнизонного батальона, с которым я и покупал тарантас и который делал поправки. Зимою экипаж еще дешевле, можно купить недорогую кошеву (сани), покрыть войлоками, в несколько войлоков, и она будет довольно теплая; мне говорил один господин, что он, ехавши больной из Благовещенска, лежал в кошеве и читал даже, зажигая свечку. Хорошо бы тебе найти попутчика из купцов бывалых. Для этого не беда прожить несколько дней лишних в Нижнем, Казани, Перми, только чур, — иной раз на такого нападешь, что беда.
Так как ты еще не скоро поедешь, то буду давать тебе свои советы в следующем письме, теперь некогда, нужно много писать в Читу и по службе и т.п., потом искать квартиру, устраиваться и пр.
Прощай.
П. Кропоткин
В письмах будь осторожен.
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 97, л. 294–295.
Переписка. Т. 2. С. 130–131.
Петербург [1] 4 декабря 1863 г.
Варенькины [2] именины, как
в календаре «Полиц[ейских] Вед[омостей]
Конечно, первое дело, что я делаю здесь. Я проводил тебя и вернулся домой, отобедал и читал «Карла Смелого». Наскучило мне его читать, полежал, полежал, да и пошел к Серно-Соловьевичу [3] взять статью «Амурский край и его значение» [4], по пути зашел к Гесселю. Взял я «Амурский край», почитал газеты, затратил пятак и ушел домой.
На другое утро, удрав с 11 часа зашел к Гесселю, купил себе Гейне «Buch der Lieder», давно хотел иметь, только накануне вспомнил, потом пошел рыскать: брился, снял карточки (удачно), потом должен был идти в Библиотеку к часу, а еще рано. Шел, вижу «Постоянная выставка художественных произведений. Ц. 15 к.», зашел, да без очков худо, ничего не видел, а стоит того; надо бы было нам вместе сходить, ты бы рад был, хорошие пейзажи, хорошая картина: муж-чиновник, пробритый подбородок (бросается в глаза), пьяный, лежит в углу дивана, на полу лежит стул (на стуле нога в грязном чулке), кошка, шапка, жена, простое, но красивое русское личико, у комода задумалась, — великолепное выражение лица; люлька с ребенком на полу; освещение из окна, — без особых эффектов. Еще одна: малороссийская изба, муж умирает на полу под балахоном, тут же доска, на доске «кваску испить» в деревянной чашке, жена около ребенка, качает в люльке ремнем на ноге, дверь отворена, свет из нее на умирающего, там жатва. Ужас выражение… ну, да тупее, чем у той женщины, — тихая грусть, безответность, молчание, даже ропота нет, — менее развита.
К часу пошел в Библиотеку. Кравченко там. Мы обходили более часа с ¼ и обегали почти залы, я сердился на то, что так скоро обходят, не успеваешь рассмотреть выставленных гравюр, старых книг, рукописей с рисунками и т.п., а 1¼ ч. ходили. Больше всего на меня подействовало последнее: кабинет как был во времена Гутенберга, Фауста и пр. Стекла цветные, Pult с книгами, часы такие и песочные, я посидел на кожаном стуле, почитал, ничего не понимая, латинскую книгу. Книги в каких-то стойлах, на цепях, потом целая библиотека. Затем другой Pult, на котором лежат книги с предикими нотами, чтобы стоя петь, попробовал спеть и запел какую-то чушь из наших опер. Конечно, так и чудилось: Es Klopf? Herein! [5] и пр., и пр. Впрочем, я одно им заметил, что на дверях пентаграммы нет.
Оттуда потаскались с Кравченко. Какого я славного черта купил отцу для спичек, всего рубль стоит, а может сойти за японского, хоть и в европейском сюртуке. Обедали мы у Палкина (Кравченко звал). Жаль, что мы там не были: машина играет много нового, кроме «Камаринского» и увертюры из «Севильского Цирюльника». Вечером я сидел дома, читал «Амурский край» и вздумал написать для «Книжного вестника» заметку об ней, написал на большом почтовом листе 4 стр. и снес сегодня утром [6]. Сегодня же купил De Lérain «Annoire Scientifiques», и зашел к Винклеру за «Vie de J[esus]» [7]. Получил и, вернувшись около 5 часов, после обеда засел читать (получил до субботы). Читал, а во время чая стал просматривать «Annoire Scientifiques». Статья Lamé, «Etude sur les thèories de la chaleur», 14 стр. мелких. Статья так мне понравилась, что я бросил «Vie de Jesus» (довольно интересно) и принялся переводить: так ясно, доступно, сжато, что просто роскошь. Есть, впрочем, лишнее историческое описание воззрений на эту тему, интересно, хоть и лишнее, но разъясн[яет] дело при этом составе статьи. Но ведь нельзя же сунуть читателю математическую формулу на 2-й странице — обидится… Начал я переводить; не решивши — для чего, захотелось… Может быть, годится для «Русского вестника», и то навряд, с французского, на французском-де всякий сам прочтет. Может быть, для «Артиллерийского журнала». Три страницы перевел и поправил не более как в 1½ часа. На досуге, пожалуй, ты поможешь переписать. Теперь, как видишь, письмо пишу. А ты что делаешь? Устал верно от беготни за квартирой. И на дороге верно мерз? Здесь холодно.
Однако, прощай.
П. Кропоткин.
В 42 № «Современной Летописи» напечатаны 3 письма: 1a, Чита, гор[одское] устр[ойство], и b поправки, 2, Амур ниже Благовещенска, об Ингоде и Шилке [8], кажется, первое не вполне, я видел у Винк., очень убористо.
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 97, л. 287–289 об.
Переписка. Т. 2. С. 131–133 (со множеством пропусков и неточностей, выправленных по рукописи).
Примечания
1. П.А. Кропоткин в ноябре 1863 г. был командирован в Петербург с донесением о гибели барж с хлебом на Амуре.
2. Варвара Дмитриевна Друцкая, двоюродная сестра братьев Кропоткиных, придерживалась передовых взглядов: в частности, еще в 1858 г. знакомила П.А. Кропоткина с произведениями А.И. Герцена.
3. Книжный магазин и библиотека для чтения Н.А. Серно-Соловьевича были опечатаны в связи с арестом владельца 7 июля 1862 г., но через некоторое время были вновь открыты; управление ими было поручено С.Н. Пыпину. В 1863 г. фактическим владельцем магазина стал А.А. Черкесов (Книга в России 1861–1881. — М.: Книга, 1988. — Т. 1. — С. 107). Однако, как видим, имя Серно-Соловьевича закрепилось за книжным предприятием, и полтора года спустя после ареста бывшего владельца Кропоткин продолжает именовать магазин по-старому.
4. Кропоткин имеет в виду статью: Афанасьев Д.М. Амурский край и его значение // Морской сборник. — 1863. — Т. LXIX, № 11, ч. неофиц. — С. 1–86.
5. Стучат? Войдите! — (нем.).
6. Рецензия была напечатана без подписи (Амурский край и его значение // Книжный вестник. — 1863. — № 24, 31 дек. — С. 452).
7. Книга Эрнеста Ренана «Жизнь Иисуса» вышла из печати в 1863 г. и, следовательно, была интересной новинкой.
8. Корреспонденции напечатаны подряд, как одна статья; см.: Кропоткин П.А. Чита, половина июня 1863 г. Амур ниже Благовещенска, 22 июля // Современная летопись. — 1863. — № 42. — С. 10–12.
Ну, Сашурка, если бы ты знал и видел, до какой степени гадости и мерзости дошел наш распрелюбезный тятенька — ну, право, противно писать теперь, время не уйдет, расскажу потом…
Твое дело вот каково: предлагает тебе ехать со мной: «Куплю ему полушубок и волчью шубу, это мне в долг отпустят». Я говорю ему про повара и одежу. Я просил дать тебе на одежу и чтобы заплатить повару. Он целый день говорил, что это не его дело. Белье получишь от Елизаветы Марковны, хоть немного. «Да у него еще другие долги, должно быть, есть?» Я не мог наверно сказать. «Кажется, нет, — говорю, — т.е. не терпящих отлагательств, кажется, нет».
Впрочем, он жалуется, что наличных денег нет, — действительно, это, кажется, правда.
Утром, садясь писать, я думал много писать, много, много хотел тебе рассказать, но не взыщи, право невмоготу, черт знает почему скверный денек выпал.
Лидочка [1] здесь. Я видел ее на Рождестве в соборе. Потом был у них с визитом. Отец злится на Еропкина за то, что Кошкарев поручил Еропкину получить с отца 450 р. по сохр[анной] расписке. Я был поэтому один. Вчера был бал; конечно, и я был, танцевали с Лидочкой, сегодня она должна была быть у нас. Марья Марковна, Полинька [2] и я были у них.
Лидочка до сих пор любит меня, до неосторожности, например, вчера (расскажу лично), а сегодня так слезы на глазах, когда мать не пустила к нам, рукопожатия, — и я сам виноват. Это мучит меня.
Прощай.
П. Кропоткин.
28 декабря [1863 г.]. Калуга [3]
Читаю Огарева, Гейне, «Эгмонта».
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 97, л. 296–297 об.
Переписка. Т. 2. С. 133–134.
Примечания
1. Лида Еропкина — дочь соседей Кропоткиных по Калужскому имению.
2. Сестра мачехи и сводная сестра братьев.
3. В середине декабря П.А. Кропоткин ездил к отцу в Калугу, где почти постоянно жила вся семья — жить в Москве было слишком дорого.
1864
27 февраля [1864 г.]
Саша, я могу написать тебе чрезвычайно приятную для меня и неприятную для тебя новость. На днях решено следующее.
Вот тебе карта:
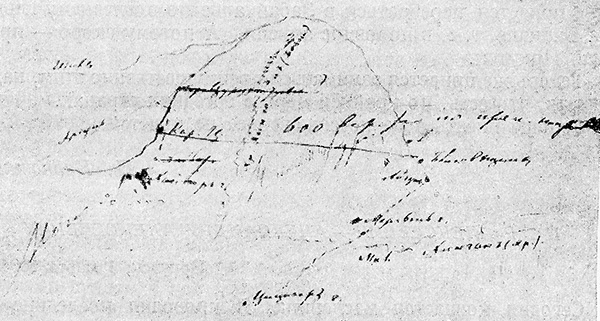
По репродукции из кн.: Переписка. Т. 2. С. 149
Русские ходили только с Цурухайтуя до Хайлара, и из Айгуна на Мергень [1] и Цицикар. Теперь снаряжается экспедиция из Цурухайтуя на Айгун. Есть слухи, что тут есть дорога. Есть слухи, что живут тут какие-то племена (не помню, какие). Теперь хотят узнать, действительно ли хороша эта дорога, — можно ли прогонять по ней скот. Говорят, там дешев скот и пр., и пр. Нужно узнать, что это за сторона. Ходили туда иезуиты, но очень давно, и сведений очень мало. Кукель предложил мне эту экспедицию. Снарядят караван из трех–четырех казаков, лошадей двенадцать, закупим товаров и поедем торговать. Я поеду тоже торговцем, и сохрани бог подать вид, кто я — могут не пустить, — знаешь, как китайцы подозрительны, особенно если узнают, что я военный. Потихоньку надо будет снять дорогу, для этого, может быть, дадут в помощь топографа. Командировка, как видишь, в высшей степени интересная, тем более, что всякое сведение драгоценно, но нельзя будет выдать себя, а потому надо быть очень осторожным, а потому запасусь коробкой товаров, буссоль за пазуху, барометр в карман — и марш. Одежа простого казака, буду приторговывать.
Тебе это известие будет неприятно, потому что ты долго будешь (месяца три) без писем.
Вчера Кукель предложил избрать меня в члены Сибирского Отд. Географического О-ва, избрали и ждут великих милостей. Рылся я сегодня в библиотеке Генерального Штаба и ничего не нашел об этой сторонке.
Но, Саша, тут-то и поражает меня мое незнание, мучительно. Важно определить строение гор. А как я определю? Я шифера не отличу от гранита или почти так. Растительность, как я ее опишу? Срисую? Как?
Да, жалко. А можно бы было многое описать. Везти же коллекции невозможно, поймут, что не казак, тогда и казенной цели не достигнешь. Спасибо, хоть съемку могу сделать, и то с трудом, потому что как ты определишь горизонтальное проложение подъема на гору в 5 часов времени! Нужен навык, но это еще самое легкое, — а строение гор и растительность, — вот беда.
Вчера помешали кончить. Сегодня я получил «Землеведение Азии» Риттера и 5 карт этого края, т.е. ни одного лешего туда не носило: ходили с Цурухайтуя на Пекин, но прямо на Айгун никто не ходил, а так, и для исследований никто не забрел в этот угол. На картах китайских всё нанесено чрезвычайно нелепо и безобразно, так что я не могу составить себе даже приблизительного понятия о том, как пойду, по каким рекам.
Из Цурухайтуя мы выйдем в первых числах мая; для этого мне придется перебраться в Забайкалье по последнему льду на Байкале, т.е. в половине апреля. А потому скоро — прощай, Иркутск.
Теперь же придется заниматься преимущественно этим, — надо читать то, что есть, по крайней мере об соседних странах.
Больше писать тебе нечего, вернее, не хочется. Прощай.
П. Кропоткин
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 97, л. 315–316 об.
Переписка. Т. 2. С. 147–150 (с мелкими неточностями, выправленными по рукописи).
Примечание
1. Цурухайтуй (ныне поселок Приаргунск) — казачья станица на левом берегу реки Аргунь; Хайлар — город в северо-восточном Китае, Айгун — китайский город на Амуре, приблизительно в 35 км ниже по течению от Благовещенска; Мергень — город на левом берегу реки Нонни, правого притока Сунгари.
Иркутск, 21 марта 1864 г.
Вчера получил от Штак[ельберга] сцены из «Эгмонта». На меня вчера напал такой переводный азарт, что я сам удивлялся, как легко подыскивались выражения, обороты. Результатом этого вышло то, что теперь кончил почти всего «Эгмонта», за исключением 2-х сцен, переведенных Вене[витиновы]м [1]. Следовательно, конец близок. Поплавской обещал прочесть всего «Эгмонта» дня через два.
Сейчас был у меня Ерофеев, твой бывший товарищ. Он был в Инженерной Академии, куда поступил после выпуска 62 г. Там им при начале польской войны предложили выйти из академии. Он, выбирая между Варшавой и Восточной Сибирью, попал сюда. Корсаков оставил его здесь, он командует сотней забайкальского отряда, который приходит на службу в Иркутск, узнал, что я твой брат, и пришел ко мне. Человек неглупый, с хорошими, по крайней мере, намерениями. Сибирью не совсем доволен, потому что действительно командовать сотнею невесело, жалуется, что нет порядочного общества. Вот мы с тобой его образуем и учредим ему у себя притон. Приезжай только.
Корсаков, не помню, писал или нет, предложил мне, если выеду в Благовещенск, ехать в Николаевск, — следовательно, ты еще дольше не будешь получать писем от меня. Я же еду, потому что хочу видеть Николаевск, и вообще эта поездка полезна для меня во всех отношениях.
Да, здесь есть еще твой товарищ, Чудновский, переходит в Генеральный Штаб, доканчивает здесь статистическое описание Иркутской губ., только болен бедняга.
28 марта
Вот целая неделя прошла, а моя жизнь теперь так не разнообразна, что и писать-то нечего, даже не затронуло ничто посильнее. Жизнь идет очень однообразно. Утро за книгами об Монголии и Манчжурии и т.п. вещах. В 3-м часу обед. После обеда у Поплавских играю, вечер или дома, или у Поплавских, или у кого-нибудь из знакомых, нисколько не интересных, вернувшись домой, читаю Льюиса 2-й том, кончаю теперь только. Об нем нашлось бы что писать, да весь день прошел так безалаберно, а сам утомлен, вот и откладываешь, а завтра то же, с утра черчение карты по спутанным маршрутам Ланэ и т.п. дрянь.
Пока ничего не знаю наверное о своем отъезде, завтра или послезавтра узнаю, тогда напишу.
Между прочим, на днях, ночью через 4–5 домов от нашей гостиницы был огромный пожар. Я не спал. Меня поднял шум пожарных. Я сейчас вскочил, отдернул занавес от окна, — великолепнейшая иллюминация, совершенно Варфоломеевская ночь в «Гугенотах»; впопыхах оделся и побежал туда. Поработал немного, слегка простудился, так как был без калош, а воды много проливали пожарные, ночью же земля была очень холодна. Впрочем, дело кончилось хрипотою от крика и насморком.
Вот и все разнообразие моей жизни. Я рад буду выехать. Пора уже, или надо вести жизнь иначе.
Прощай, пока нечего писать.
П. Кропоткин
29 марта
Крепко целую Леночку. Кланяйся дяде, Анюте не нужно, если она такая бездельница. Тетке и пр. также поклонись.
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 97, л. 325–327 об.
Переписка. Т. 2. С. 154–155.
Примечание
1. Перевод сцен из «Эгмонта» И.В. Гёте, сделанный поэтом Д.В. Веневитиновым (1805–1827) в середине 1820-х гг., был опубликован в 1831 г.
2 апреля 1864 г. Иркутск.
На днях меня поразила совершенно неожиданная новость. Мне назначили награду за сплав 300 руб. То есть говорится — за сплав, потому что это вид награды, разрешенной законом и обычаем из остаточных за сплав денег. Но я себе не ожидал ничего подобного, потому что ты знаешь, что я делал на сплаве. Так что я должен был высказать это Кукелю. Ну, говорит, это за всё вместе. Вообще это не совсем справедливо. Но что же делать? Несправедливо относительно начальников разбитых рейсов, которым ничего не дают. Но Корсаков находит, что им невозможно дать.
Так как теперь деньги есть, то посылаю тебе 50 р., расплачиваюсь за harmonifluit, посылаю на книги и пр., и пр. К тому же скоро должны быть деньги от отца.
Скоро я еду, дней через 5, 6, впрочем, до отъезда в Читу еще напишу тебе.
Вчера отправил письмо Леонтьеву, вышло огромное и довольно разнообразное. Содержит 10 больших листов, довольно убористых [1]. Если летом уедешь, то скажи Леонтьеву, чтобы гонорар он оставлял у себя, пока не напишу ему, что с ним делать.
После твоего отъезда не распорядишься ли передать их [2] кому-нибудь из студентов, чтобы получали — пригодится. Неловко только, не захотят брать, хотя это будет очень глупо.
Вероятно, ты без меня приедешь, — я буду еще на Амуре. (Вообрази, какая здесь недостача в грамотных, — говорили, не поспею ли я раньше выйти, чтобы взять на себя историческую часть экспедиции, которая, кажется, пойдет на Сунгари (приток Амура)). Конечно, этого не успеть, но я, кажется, если выйду в Благовещенск, поеду до Николаевска.
Если без меня приедешь, то остановись в гостинице у Метцгера*. К хозяину обращайся за всякими сведениями. Он человек хороший и всё сообщит. Но еще вернее будет обратиться прямо к Думанскому, он будет команд[овать] Иркутским полком, ты должен будешь и по службе к нему явиться, и затем прямо обращайся к нему за всем, что будет нужно. Он тоже хороший человек, простой, честный и добрый [3].
Так как больше ничего нет хорошего, то и писать тебе нечего. Целуй Леночку, я скоро напишу ей.
На днях я много говорил о тебе с Поплавской. Она тебя ждет. Прощай.
П. Кропоткин
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 97, л. 328–331 об.
Переписка. Т. 2. С. 155–156 (с мелкими неточностями и пропусками, последние восстановлены не все).
Примечания
1. См.: Кропоткин П.А. Из Иркутска. 31 марта 1864 г. // Современная летопись. — 1864. — № 19. — С. 9–12; № 20. — С. 7–9.
2. Т.е. деньги за статью.
* Если не будет №№, скажи, что ты мой брат, что-нибудь сделают. — (Прим. П.А. Кропоткина).
3. Далее большой пропуск в публикации, зафиксированный по рукописи, но не восстановленный.
Иркутск, 8 апреля 1864 г.
Измученный, усталый, как сукин сын, сажусь я написать тебе хоть несколько строк. Вот два дня бегаю как гончая собака повсюду получать всякую штуку, закупать товары, менять деньги на серебро и пр. и пр. Потом укладка. Завтра еду вечером и очень рад выбраться.
Теперь жди письма из Читы, но промежуток между этим и будущим письмом будет не меньше месяца или около 4-х недель, потому что почта ходит уже кругом Байкала. Я же поеду через море на вольных.
Прощай.
П. Кропоткин
Леночку поцелуй.
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 97, л. 332.
Переписка. Т. 2. С. 157.
Чита, 18 апреля 1864 г.
Дня три тому назад я приехал в Читу, ехал себе спокойно, не торопясь, заезжал по дороге в один бурятский дацан [1], впрочем, мало в нем интересного. Приехал в Читу, остановился у одного знакомого офицера, славного малого. Я хотел пробыть в Чите не более 2-х дней и ехать дальше в Чиндант [2]. Но оказалось невозможным дальше ехать, реки еще не прошли, а лед на них так слаб, что невозможно пробраться. Вот я и жду здесь, пробуду до 4-го дня пасхи, которую намеревался провести во 2-й бригаде.
Сейчас узнал, что мой хозяин посылает на почту, принялся писать и на ходу кончаю письмо. Следовательно, прощай.
П. Кропоткин
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 97, л. 333–333 об.
Переписка. Т. 2. С. 157.
Примечания
1. Буддийский (ламаистский) монастырь.
2. Станица Чиндантская лежит на р. Ононе, правой составляющей р. Шилки (бассейн Амура), вблизи границы с Монголией.
Благовещенск, 14 июня 1864 г.
Твои письма не оставляют меня. Только что я приехал сюда, как получил твое письмо, пересланное мне из Иркутска. Надеюсь, что и между моими не будет большого (по-амурски) промежутка. 11 июня я был уже в Айгуне, — китайский город на Амуре, в 30 верстах от Благовещенска, путешествие кончено, и кончено так удачно, как никто из нас и не думал. В Айгуне и один станок перед ним я сказывался больным, ехал в болоке телеге, весь подвязанный и не показывался, а то бы Айгунские знакомые непременно меня узнали. В Айгуне я перешел в палатку, наши попросили лодку, чтобы скорее перевезти больного на русскую сторону. Китайцы охотно исполнили. Тут мы узнали, что Корсаков в Благовещенске и едет завтра утром. Я, переехав на нашу сторону, сейчас же на коня и на рысях отвалял 40 верст, чтобы застать Корсакова в Благовещенске. Ехал всю ночь, переехал Зею, и в 4-х верстах от Благовещенска приютился у одного крестьянина. Корсакова я не застал. На рассвете, во 2-м часу ночи, он выехал вниз. Я послал в город ко всем властям узнавать, какое мне оставлено предписание, — куда ехать. Никакого! Корсаков du haut de la grandeur [1] настоящего своего величия и не вспомнил об нас грешных. Говорил, что я скоро должен быть, но куда мне ехать — ни ½-слова! Насилу разыскал свои вещи, которые вез мне его адъютант, и то половину, другой, самой нужной — книги, бумаги — нет. Должно быть, забыли оставить. На словах он звал меня в Николаевск, на бумаге сказано: если не будет никакого приказания, — вернуться в Иркутск. Сунгарийская экспедиция состоится или нет, — неизвестно, мне бы желательнее плыть в Николаевск, затем на о. Сахалин, куда он плывет может быть, на Сунгари, если он пойдет. Да и мои вещи там. Да и если я ему не нужен, он бы, верно, сказал: пусть вернется. В неизвестности я два дня прожил у скопца на Зее, наконец вечером, чтобы не видали манчжуры, приехал сюда. Здесь приняли очень хорошо, но я ровно ничего не знаю, куда ехать. Наконец решился уехать верст за 150 от Благовещенска и там ждать возвращения Амурского губернатора, который поехал с Корсаковым; знает, что мы вышли сюда, и, верно, скажет мне, куда деваться. Завтра уезжаю отсюда. Вот как творятся дела!
Прошли мы очень хорошо, препятствий никаких, даже слишком много чести оказывали, отгоняя с пути орочон, чтобы они с нами не торговали. Торговля вообще вышла очень плохая: в Мергене я продал 1 штуку плиса, да несколько мишуры, казаки — тоже пустяки; в Айгуне совсем было запрещено торговать. Товар весь остался у меня на шее, не знаю, что и делать с ним, — вообще вся поездка влезла в копейку как казакам, так и мне. Но что меня больше всего бесит, это Корсаков, который ничего мне не оставил. В дороге я ехал хорошо. Ехали мы не скоро — верст по 30–40 в день. Поднимались со светом, ехали шагом, я всё время делал глазомерную съемку, т.е. буссолью определял направление пути, часами число пройденных верст, и на каждой точке зачерчивал на скорую руку, на глаз нанося окрестную местность. Провожатых не было постоянных, иногда присоединялся какой-нибудь хаван, ехал с нами, тогда я или отставал, или вперед уезжал. Из всего этого составится самая приблизительная карта пути, которая кое в чем поправит карты, ныне имеющиеся. Кроме того, я собирал камни в тех местах, где были обнажения горных пород от речек или других каких причин. Конечно, я бы мог собрать гораздо больше того, что я собрал, если бы, не делая съемки, мог больше отлучаться от дороги. А то доводилось брать то, что на дороге попадалось. Собрал около 120 экземпляров горных пород, которые с подробным каталогом, может быть, дадут возможность составить геологический обзор местности. Кроме того, —существование вулканов, вопреки теории их приморского расположения, предполагалось, что их; нет внутри материка. Теперь я наверно утверждаю, что они есть в Иньхури-Алине (хребет, # Амуру). Меня поразила первая сопка, вгляделся — вулкан; отрезной конус с кратером, ныне рассыпающимся и прорванным ободом, на одной стороне от прорыва набросаны камни; я подъехал — вулканический туф. Везу образцы. К сожалению, об растительности могу сказать очень немного, а гербарий собирать нельзя было.
Комедия удалась вполне. Казаки, конечно, меня знали, но монголы и манчжуры хотя знали, что пойдет князь, и спрашивали, не Муравьев [2] ли, но потом убедились, что купец. Как же — я стоял перед урядником, — нашим караванным старшиною, работал, в то время, как он сидел и говорил с манчжурами, садился на заднее место и т.п. Они не могли и подумать, чтоб нойон [3] стал так притворяться — это и в голову им не могло придти. Со мной они дружились. Урядник Софронов, — старшина, серьезный, важный, — а я болтаю, братаюсь, курю их вонючие ганзы [4], угощаю своим табаком всякого последнего орочона, и «дрянгýнда» (купец) «Пётра» сделался «анда» (друг), «топра парн» (добрый парень) — там, где говорят по-русски (т.е. знают «нет»… один, два и — только). Одним словом, всё как нельзя лучше. Жалеют, что я не знаю по-ихнему, «а то бы с ним много поговорили» и т.д. Но я все-таки говорил знаками, и никалы, которые не понимали наших, меня понимали, если я просил купить какую-нибудь вещь.
Ну, прощай, однако. Напишу из станицы. Надо письма писать о караване деловые. Получил твое письмо № 8 об Леночке и стихи Коли etc. Буду писать скоро.
П. Кропоткин
Получил от Анюты письмо и карточку. Успею — напишу сегодня.
Получил ли письмо из Китая, с Аскина, карандашом?
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 97, л. 340–343 об.
Переписка. Т. 2. С. 164–167.
Примечания
1. с огромной высоты — (фр.).
2. Николай Николаевич Муравьев-Амурский (1809–1881) был до М.С. Корсакова генерал-губернатором Восточней Сибири.
3. Нойонами в Манчжурии и Монголии XIX в. именовали правителей разного ранга, вообще начальство.
4. Ганза — трубка.
Ст. Пояркова, 17 июня 1864.
Я сидел и перед тем как лечь спать, принялся просматривать книжонку «Угроз Северовостоков», творение мистиков 12 года, Юнга, иначе именуемого Шиллингом. На меня сыпалась куча тараканов, с потолка прыгали, бегали на огонь, какие-то еще насекомые летали. Я подумал, что бы ты стал делать в такой избе, а нечего делать, — сидел бы и занимался, только чего бы стоило тебе привыкнуть к этому!
18/VI
Ты говоришь, что с мыслью о напечатании статьи о происхождении видов приходится расстаться потому, что параграф об изменяемости диких видов слишком краток. Это тебя возмущает. Но подумай ты, где же достать тебе фактов на этот параграф? Да если их вообще никем не собрано. Что делать в этом случае? Или самому начать собирать их, — или так и говорить, что, мол, не собраны. Самому собирать тебе нельзя, потому что можно собирать либо знающему хорошо ботанику — на Амуре, или где-нибудь, где представилось чрезвычайно много разновидностей, либо по сочинениям об флорах, которых в Москве нет, да и вообще имеющиеся написаны большей частью по-латыни. Если же ты не можешь собрать этих фактов, так есть ли это резон на то, чтобы не доказывать вообще изменяемость вида, которую можно доказать и помимо этого. Ты убежден (да и сотни людей) — без фактов об диких видов твоя статья лишается вследствие этого стройности. Так. Но тем не менее польза ее может быть огромная. Книгу Дарвина прочтут немногие, твою статью можно сделать [так], что все читатели известных журналов ее прочтут. Я писал тебе, что у немцев сейчас явилось общепонятное изложение учения Дарвина, короче, менее утомительно для непривычных от меньшего числа фактов, и дешевле, — книга меньше. Вот учение Дарвина и распространится по Германии. Для массы читающей публики нужны выводы с небольшим числом фактов в подтверждение. Для большей стройности можно (даже не должно ли вообще) сократить другие параграфы. Слишком много фактов. Конечно, не делать их равными § об диких видах, так как он, может быть, будет слишком мал, а сократить все-таки. Отвращение можно пересилить, как не раз, может быть, тебе доведется пересиливать отвращение к моим соседям тараканам. Не знаю, я бы на твоем месте кончил статью и напечатал бы; пожалуй, обратился бы к Богданову — он укажет, где скорей напечатают. По-моему, лучше кончить, польза будет.
Если тебе не хватает знания зоологии, анатомии, физиологии, и охоты нет ими заняться, то займись хоть настолько, насколько это тебе нужно. Надо выбрать только по зоологии, анатомии что-нибудь вроде физиологии Льюиса. В нем читай то, что тебе нужно. Тут еще то может выйти, что читая хорошую книгу, ты, может быть, втянешься, так что примешься серьезнее заниматься, ведь ты понятия не имеешь об зоологии, например. Я так думаю по себе. Сперва я считал ее вместе с ботаникой наискучнейшими науками, теперь я вижу, что я [не] подозревал, что в них может быть интересного. Про зоологию и говорить нечего. Порядочный зоолог не станет говорить об том, что у животного 32 зуба — и только, а будет говорить об этом сравнительно. Тогда каждое ее слово будет новый материал для вопроса о происхождении видов. Не знаю, существует ли такая зоология, — или это пока идеал, носящийся в моем воображении.
Я при каждом взгляде на растение, на животного, имею в виду, что бы тут можно сказать в пользу изменяемости вида. В дороге мы убили тарбагана (зверь, который роется в земле, выкапывая себе дома, любопытен, ленив — во многом похож на своего соотчича монгола и забайкальского приаргунского казака). Меня поразили его зубы: почти вершок при голове в 3 вершка, не более. И таких только 2 передних верхних и 2 нижних (последние еще больше). Затем большие когти на передних ногах, короткие передние ноги. Я уверен, что в разных местах тарбаганы не похожи друг на друга, — вот целая интересная статья, отчего у этого такие громадные зубы, у других менее и т.д., целую статью можно написать об нравах, различии местности и приноровленности их к обстановке. Далее — кроты. Есть такие, которые и 10 минут не проживут на поверхности, т.е. если проживет, то свернется, ослабеет, как мертвый становится. По дороге в Даурии мы видели таких, которые много даже бегают по поверхности земли (один даже лазил у меня по голове в палатке). Казаки немало дивились этим кротам, они не похожи на Забайкальских. Зубы у них вроде тарбаганьих, когти тоже. Такая сравнительная зоология и ботаника должны быть очень интересны, особенно та, которая будет объяснять еще сходство различных видов в связи с их образом жизни. Рядом с этими объяснениями ты превосходно познакомишься с наукою об организмах вообще. Тоже и в анатомии, разница в том, что та рассматривает влияние различных условий на целое животное, эта — на части.
Что думает делать Леночка? Согласна ли она на то, что я писал? Ведь так жить невозможно. Это хуже каторги. Поездка в Ярославль, — временное. Остается одно — разъехаться. «Свет повторил», — ты пишешь, следовательно, пускай повторит и 2-й акт. И кто этот свет? Люди, которых она сама ни в грош не ставит. Можно ли во что-нибудь ставить их мнение? Скажи ей это, или прочти. Пусть вызывает меня хоть по телеграфу. Я имею право на отпуск, как-нибудь доеду. Или, может, ей лучше так жить, чем потерпеть какие-нибудь мелкие стеснения в обстановке. Я согласен с твоим взглядом на отношения Леночки к мужу не вполне. Если она заранее не дала ему полного согласия распоряжаться, как ему желательно, он должен был, продавая болото или там что-нибудь другое, спросить ее согласия (равно как и во всем остальном). Если она давала с таким-то условием, хотя бы наиглупейшим, он все-таки должен был его уважить. Если вексель не был дан, он неправ.
19/VI
Я всё живу в Поярковой, у моря жду погодки. Море мое Амур, погодка должна принести пароход. Пароход — здешнего губернатора, а здешний губернатор — известие, куда мне направиться. Живу у одного казака, болтаю с ним, и целый день либо черчу карту пути, либо пишу что-нибудь. Написал 2 большущих рапорта, принялся за письмо Леонтьеву. Есть что писать, только худо пишется. Масса работы имеется в перспективе, писать черновое описание пути, т.е. отдельно — дневник, заметки об растительности, об геологическом характере местности, об народах, об торговле, отделить от подробного описания пути, которое будет сухо и скучно, а потому если кто захочет читать его, то чтобы найти 3 страницы об растительности, не заставлять просматривать всей статьи. Кроме того, мне хотелось бы для «Русского Вестника» написать статью об путешествии же для легкого чтения, соединив ее с etude de moeurs [1] об казаках и тех народцах, которых мы видели. Не знаю, это едва ли приведется в исполнение, а хорошо бы было. Для письма слишком было бы длинно. Затем, начертив черновую карту пути в настоящем масштабе, надо будет перечертить ее набело. Тоже работы куча.
Наконец, с приездом на Амур накопилось много интересного для письма Леонтьеву.
Всё надо писать, писать, писать.
Пока прощай. Сегодня бы должен быть Амурский губернатор, да чего-то не [едет]. По крайней мере, буду знать, куда деваться. А между тем весьма вероятно, что и он ничего не привезет.
Прощай.
Кланяйся Ярцеву М.И.
П. Кропоткин
Вместе с этим пишу Анюте. Пишу, между прочим, что вот ты ни разу не написал, чем она занимается, что делает, пишешь только, что она здорова, мол, и более ничего.
19 июня, вечер
Письмо монаха и стихи Коли заставили меня сильно призадуматься. Значит, он действительно хотел идти в монастырь, не говорил только, что хочет, или это настроение нашло уже после, и это могло быть, если он легко поддавался окружающим впечатлениям. А нет, так что его заставляло хотеть этого?
Вот что надо сделать: напечатать в Московских и Петербургских Ведомостях объявление такого рода:
Желая знать, где в настоящее время находится (наш брат)* Николай Алексеевич Кропоткин (крупно), просим его уведомить нас, туда-то: в Иркутск сотнику Кропоткину, или на имя Васильковского, потому что не зная меня, он может подумать, что я напишу отцу. А может быть такой случай, что он этого не желает.
Авось откликнется.
Что говорит Протопопова? Куда он делся из монастыря? ведь ее видели с ним монахи. Если она говорит, что ничего не знает, куда он делся из монастыря, может быть, врет. Правда не из чего ей врать. Монахи не говорят наверно, или нет — пишут, что видели в коляске. Я не помню хорошо самого письма, отец говорил и давал письмо читать.
21 июня
Вчера проходил Амурский губернатор. Порешили, что я поеду в Николаевск — сегодня должен был прийти еще пароход. Я хотел на него отдать письма, действительно он был, но мимо прошел. Письма я отсылаю в Благовещенск сухим путем. Черт знает, когда дойдут. Следующее письмо получишь, вероятно, из Хабаровки. Помни, сколько в прошлом году ходили письма. Я хотел послать денег на напечат. Но отсюда нельзя. Займи, если можно, у Михаила Павловича, или подожди из Хабаровки.
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 97, л. 344–349 об.
Примечания
1. исследование нравов — (фр.).
* Или просто, тогда подписи не нужно — (Прим. П.А. Кропоткина).
20 июля 1864 г. Станция Михайло-Семеновская
Завтра отправляемся на Сунгари. Лубочнее экспедиции трудно себе вообразить. Идем на одном пароходе с баржей. Помещения нет, т.е. далеко недостаточно для 8 человек чиновников, 2 у[нтер]-офицеров и 20 солдат. Не только заниматься будет негде, но и спать-то где, не знаю, разве сидя. Куда? зачем идем? Никто не знает. Должны дойти до Гирина (1100 верст). Как? Неизвестно. Сунгари мелка, в 200 вер[стах] один ходивший туда пароход встретил 4 фута — следовательно, надо будет верхом ехать. На чем? Китайцы не дадут и не продадут коней. Наконец, я не знаю, должен ли я идти до Гирина, будет ли пароход ждать возвращения тех, кто поедет до Гирина и т.п. Дров на Сунгари нет или цены непомерны — 19 долл. за сажень просили. Каменного угля берут мало, 5 тысяч.
Впрочем, все это едва ли тебе интересно. Знай, что экспедиция глупа донельзя и даст плохие результаты. Географически ничтожные — ученых почти = 0, служебных никаких, а в отношениях между народами напакостит.
Я ничего не пишу больше, потому что, право, не могу, бесит меня все это. Вернусь нескоро. Нанимай квартиру, получишь от Думанского 180 р. и присланные книги. Я приеду с деньгами.
П. Кропоткин.
Ревет сильный ветер — Ильин день. Отчего?
Напиши в Благовещенск, на всякий случай.
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 97, л. 354–355.
Переписка. Т. 2. С. 169–170 (с мелкими ошибками; текст выправлен по рукописи).
г. Сянь-Син, пароход «Усури», 30 июля 1864.
Усталый после тасканья по Сянь-Сину, пишу только для того, чтобы сказать, что мы плывем очень хорошо, хотя, правда, с трудом пробились через бары в низовьях. С 6 часов торчу на палубе, пишу заметки, рисую эскизы гор, собираю с одним господином гербарий, делаю метеорологические наблюдения каждые 2 часа.
Намерены идти до Гирина, но едва ли дойдем, — вернемся в Иркутск не раньше октября.
Пишу с купцом, который из Сянь-Сина обратился вспять, на лодке.
П. Кропоткин.
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед.хр. 97, л.355а–355а об.
Переписка. Т. 2. С. 170, 172.
1865
Окинский караул, 8 июня 1865 г.
Пишу тебе накануне выезда из Окинского караула вниз по Оке. Предосадная вышла штука третьего дня. Собрались буряты, я все настаивал плыть по Оке, откуда только можно будет. Оказалось, что надо верст 100–120 отъезжать на конях, тут плавание признано всеми абсолютно невозможным. Далее на 180 верст — возможным, но с большим трудом, местами надо было наш «корабль» спускать на веревках, а самим идти берегом. Я решил-таки ехать и вызывал охотников. К кому ни обратишься — только одно и слышишь: «бырхи», — страшно, да и только. Я поручил старшинам вызвать охотников по улусам. Насилу наконец старшины приехали. Все та же песня, то же уговаривание. Наконец вытащили двух охотников. Пошла речь о цене — 50 р. с тем, чтобы срубить 3 бота, связать их и плыть в 120 верстах отсюда. Туда на конях. Да еще 6 р., чтобы доехать 120 верст и рубить боты. Наконец съехали на 34 р. и 6 р.
Я пересчитал свои деньги. Нужно на все минимум 75 р., и то на еду и непредвиденные расходы всего 10 р. клали, — не хватает. У меня всего 65 р. Что тут делать? Все проклятая трусливость, никто никогда не плавал, так как же плыть? Пришлось рядиться на конях ехать. Порядились за 20 р. да 2 р. ямщикам. Так и порешили, и завтра выезжаю.
Я надеюсь быть раньше этого письма: 10 дней по Оке, 2–3 дня на Зиминской ст. для барометрического определения, 1 день до Иркутска, итого 15 дней, следовательно 23–24-го буду в Иркутске, но пишу на всякий случай, может быть, ненастье задержит или что-нибудь.
Еще со мной случилось горе. Я поехал вверх по Джунбулаку, за 50 верст, так как говорили, что там есть кратер вулкана, существование вулкана подтверждалось потоками лавы в долине Джунбулака до самой Оки. Так как карты этих мест нет, я делал съемку. Только стрелка буссоли не действует, должно быть лава и железные части мешали. Я снял крышку посмотреть, не затупился ли штифтик, на котором сидит стрелка. В это время порывом ветра срывает бумагу, я хватаюсь, ножка штатива соскакивает, буссоль летит, и штифтик сломался. Съемка невозможна, исправить нельзя, нечем вывинтить сломанного штифтика. Приехал домой, горюю. Пробую вывинтить руками, нельзя, клещей нет, вспомнил в эту минуту об отвертке для пистонов, приложил, как раз пришлась, и штифтик вывинтил. Тогда я в деревяжку всадил иголку, поломал их достаточное количество, наконец сделал, и погрешность буссоли меньше 1°. Кратер действительно нашел, даже 2 и повернее Мергенского; везу шлаки и пр. Определил высоту, срисовал и вернулся.
Купил палатку у одного бурята большую, но за непомерную цену — 11 руб.; 2–3 человека могут спать. Ну, прощай пока, скоро увидимся.
П. Кропоткин
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед.хр. 97, л. 380–380 об.
Переписка. Т. 2. С. 180–181.
Иркутск 13 июля 1865.
Милостивый Государь
Николай Петрович.
Искренне благодарю Забайкальский статистический Комитет за честь, оказываемую мне избранием в свои Действительные Члены, спешу выразить Вам, Милостивый государь, мою полнейшую готовность оказывать Комитету всякое содействие в его занятиях. Хотя, живя теперь в Иркутской губернии, я далеко не могу быть настолько полезным, насколько желал бы быть, тем не менее прошу Вас передать Комитету, что он всегда найдет во мне полнейшую готовность исполнять те поручения, которые ему угодно будет возложить на меня.
Примите, Милостивый Государь, уверение в совершенном уважении и преданности, с которыми имею честь быть
Вашим покорнейшим слугою
П. Кропоткин
ГАЗК. Ф. 19. Оп. 1. Д. 7, л. 25.
Изв. ИГУ. 2012. № 1. С. 221.
1866
Качуга, 13 мая 1886 г.
Писать много не стану, — с утра занят, — вчера целый день сидел дома, — писал письмо в Отдел и исправлял перевод Page, «Philosophy of Geology» [1]; посылаю, что сделал.
Мы уплываем завтра на легоньком павозке. В Верхоленске не будем. Посылаю письмо отцу, отправь его. А знаешь, откуда он может узнать об твоей свадьбе [2]? Жена Русанова — калужанка, может написать.
Передай письмо Кашину [3] и постарайся найти лист серой бумаги, на котором у меня написаны высоты, вычис[ления] в поездку в Окинский караул. Они написаны чернилами на целом листе и 4 столбца с наблюдениями].
Если найдешь, передай Кашину. Не смешай — есть то же, написанное карандашом, тот [лисг] не годится. Если не найдешь, я ему пишу, как поступить.
Голова совсем другим занята, а то написал бы кое-что о нравственности, благо думал дорогой, да нового ничего не выдумал, так потеря невелика.
Нельзя ли будет перевести что-нибудь из «Annales Scientifiques» [4]? Верочка, может быть, перевела бы что-нибудь. Мне кажется, напечатают в «Заграничном вестнике» или даже в «Натуралисте» [5].
Guillaumin об строении солнца — если статьи хорошие, то годились бы для «Заграничного вестника». Для «Натуралиста» что-нибудь другое можно выбрать. Когда ты прочтешь с Верочкой «Annales», передай Щукиной. Они кстати пришли, вечернее чтение, для обоих годное. Ну, прощайте, обнимаю всех трех, теперь долго не ждите.
ГАРФ. Ф. 1129, оп. 2, ед.хр. 97, л. 394–395 об.
Переписка, т. II, с.185–186.
Примечания
1. П.А. Кропоткин переводил книгу шотландского геолога Дэвида Пэджа (1814–1879) «Философия геологии» (Page D. The philosophy of geology. A brief review of the aim, scope, and character of geological inquiry. — Edinburgh; London: W. Blackwood and sons, 1863. — IX, 160 p.).Книга вышла в переводе П.А. и А.А. Кропоткиных: Пэдж Д. Философия геологии. Краткий обзор цели, предмета и свойства геологических исследований. — СПб.: Тиблен и комп. (Н.А. Неклюдов), 1867. (8), 149 с.
2. А.А. Кропоткин в 1866 г. женился на Вере Себастьяновне Чайковской, дочери польского повстанца, сосланного в Сибирь.
3. Annales Scientifiques de l’École Normale Supérieure — французский математический журнал, издается с 1864 г. по настоящее время.
4. Николай Иванович Кашин (1825–1872) — врач, автор работ по медицинской географии и санитарному состоянию населения Восточной Сибири, описал несколько эндемичных болезней. Секретарь Сибирского отдела Русского географического общества. П.А. Кропоткин полемизировал с Н.И. Кашиным по вопросу о происхождении эндемичного зоба.
5. «Заграничный вестник» — ежемесячный журнал иностранной литературы, науки и жизни, издавался петербургским издательством М.О. Вольфав 1864–1867 г.; «Натуралист» — вестник естественных наук и сельского хозяйства, выходивший в 1864–1866 гг. в Петербурге, сначала как приложение к журналу «Учитель», а с 1865 г. как самостоятельное издание.
Г. Киренск 27 мая 1866 г.
Ваше Превосходительство
Михаил Семенович.
Пользуюсь разрешением, данным мне Вами, чтобы написать несколько слов об том, что известно мне путем не официальных показаний, так как Вам хорошо известно, что этим путем могут поступать жалобы только в крайних случаях.
Хотя на инспекторском смотру рабочие и политические преступники не заявили никаких существенных претензий на Управителя завода [1], но тем не менее, частным образом, во время опросов или разговоров, многие из политических преступников, сквозь зубы, тайком от заводской полиции старались заявить об том, что положение их на заводе значительно ухудшается грубым обращением с ними Управителя и разными мелкими его притеснениями за их показания об дровах. Сколько я мог заметить при кратковременности своего пребывания, в этих словах есть доля справедливости. Не говоря уже об обращении на «ты», которое г. Малков, несмотря на мое замечание, продолжал по-прежнему, — обращение, с которым они уже свыклись и на которое не жалуются, но главное то, что так как многие из этих людей действительно слабого, расстроенного здоровья, то положительно необходимо было бы с ними более снисходительное обращение, чем то, к которому способен г. Малков; он смотрит на всех их совершенно точно так же, как на здоровых рабочих, привычных с детства к тяжелому физическому труду. Если же претензия на грубое обращение заявляется в общих чертах, а не в отдельных случаях, где бы можно было точнее разобрать дело, то это оттого, что г. Малков стал бы преследовать жалующегося, как он это сделал относительно того, который писал просьбу, поданную г. Малкову на имя Шефа Жандармов о позволении полякам праздновать Рождество и Пасху по своему календарю. Они обращались и ко мне с тою же просьбою, но я сказал им, что по закону это не позволяется, а между тем передал г. Малкову, что эту просьбу, особенно относительно Пасхи, можно было бы уважить, чтобы не оскорблять силою развитого в них религиозного чувства.
Все эти мелочи, равно как и запрещения им выбирать своего старосту и высылка из завода их прежнего старосты Сморовского, — возбуждают только неудовольствие и служат поводом к недоразумениям, вредящим делу.
Впрочем, соляное дело, которое, надо сознаться, очень и очень несложно, по-видимому ведется г. Малковым хорошо, — не знаю, впрочем, насколько добросовестно, так как раз усомнившись в добросовестности человека, поневоле начинаешь сомневаться и во всем остальном; дело же об дровах невольно ведет к этому сомнению.
С истинным почтением и преданностью, имею честь быть
Вашего Превосходительства покорнейший слуга
П. Кропоткин.
ОР РГБ. Ф. 137, п. 95, ед.хр. 59.
Примечание
1. Речь идет о солеваренном заводе в Усть Куте, где работало большое количество ссыльных поляков — участников восстания 1863 года.
Киренск, 27. V. 66 г.
Решительно нет времени писать, а потому — только о деле. Был в Усть Куте, догонял павозок, который шел без меня вперед. Еле догнал к ночи, теперь все сидел, писал Богдыхану [1], а часа через 2 буду в Киренске, надо хоть часок поспать.
Здесь страшная дороговизна, решительно жить нечем, да и платье плоховато. Одним словом, в деньгах крайняя нужда. Нужно, чтобы либо выслали, либо Кирен[скому] сотенному нагоняй, — я уж хотел офицеру писать, да неудобно.
От Качуги до Жигаловой плыли мы хорошо. Вода мелкая, останавливались часто, обследовали Лену, на павозке ничего, удобно. От Жигаловой я должен был поплыть вперед, чтоб успеть пробыть два дня в Усть Куте. Пошел на лодке, тоже недурно было, да приехал в Усть Кут и расхворался поносом, потом как сумасшедший, кончивши дело в Усть Куте, должен был догонять наш павозок, — еле догнал под Киренском сегодня поздно вечером.
Но геология и этнография решительно все время отнимают, переводится очень медленно, исправил очень мало.
Впрочем, главы 2 есть готовых, но сегодня упаковать не успею, уже рассвело совсем. На днях, впрочем, напишу и сдам где-нибудь ниже Киренска.
Прощай, Верочку обними.
П. Кропоткин
ГАРФ. Ф. 1129, оп. 2, ед.хр. 97, л. 396–397 об.
Переписка. Т. 2, с. 186–187.
Примечание
1. Шутливое прозвище генерал-губернатора Восточной Сибири М.С. Корсакова. См. предыдущее письмо.
Крестовская резиденция, 4 июня 66 г.
Ну-с, господа, добрались мы до Крестовской, кончили, следовательно, плавание. Мы здесь уже 4 дня, а я почти не выхожу из дома, раз
только ходил до ближайших обнажений, — все сидел и писал. Настрочил листах
на 3-х письмо в Отдел[ение], исправил остатки Пэджа и написал на 6-ти листах письмо для «Биржевых ведомостей»…
Но на умственном труде далеко не уедешь, а на физический, кажется, и подавно плоха надежда… Выход, по-моему, для всех нас один — умственный труд. А чтобы быть сильным конкурентом, надо учиться, учиться и учиться, легче будет бороться.
Читал я о книге Кинэ об революции [1]. Вопрос очень важный, насколько революция может считать себя вправе прибегать к безнравственным мерам. Что последнее нравственность должна осудить, хотя бы оно делалось во имя самых нравственных начал, по-моему, бесспорно, я бы допустил одно ограничение (по прежней своей теории), если совершение этого безнравственного поступка приносит постоянное неудовольствие тому, кто его делает. Но на деле никогда так не бывает, нравственное чувство живо должно заглушиться и смениться сознанием необходимости, ненавистью.
Так, но насколько полезно для самого дела принимать безнравственные меры? Неужели-таки решительно бесполезно, даже вредно? Опыт, кажется, говорит, что — да, безнравственные поступки деморализуют само общество, потому что, начиная льстить, например, ради пользы дела, льстя в продолжение нескольких лет, быть может, поколений, дойдешь непременно до того, что перестанешь считать, и сам и дети твои, лесть безнравственной, а какое дело может тогда пойти? Наконец (возьми крайнее выражение принципа нравственности, применение безнравственных мер ради нравственного дела), — что тогда? Польский катехизис? А какое омерзение он внушал нам. И наконец я положительно считаю даже вредным для дела прибегать к безнравственным мерам.
Но, с другой стороны, если принять только нравственные меры, как единственно позволительные во время революции, возможна ли будет какая-либо вообще революция когда-либо. Ведь там сила. Как же ты силу поборешь иначе, как не безнравственной мерой, т.е. силой же, а тут и пошли военные хитрости, штурм ночью и т.д.
Ясно, что приходится брать средний путь, назвать не совсем безнравственной меру — в сущности безнравственную, но где же тогда критериум? Один критерий остается — полезность и вредность для большинства в настоящем и будущем, — везде этот критериум для определения нравственного поступка. Да и какой другой может быть? Воспитание, инстинктивное отвращение, но ведь как мы себя переделываем? Во всем мы стараемся избавиться от инстинктивных побуждений и либо заменяем их побуждениями, имеющими разумное основание, либо отрешаемся от них. Для меня лично это самый сильный довод.
Над первой половиной о положениях Кинэ, особенно о практической стороне дела, стоит подумать, да не по силам оно теперь моему мозгу, — заглянул в окно (заря так и светит, как в Петербурге), вспоминаю, что я в научной экспедиции, надо записывать наблюдения.
Поляков просит выписать ему книгу Н. Кауфман — «Московская флора или описание высших растений и ботанико-географический обзор Московской губ.», М. 1866, ц. 3 р., вес 3 фунта.
Деньги получишь от Рейнгардта, он ему пишет.
Когда будешь высылать мне платье, вышли: сюртук на черной подкладке, только воротник перемени, старые эполеты, штаны, сапоги, 2 рубашки с рук[авами], кепи, Полякову — сюртук и штаны, которые получишь от Рейнгардта.
Ну, прощайте, пока, напишу с приисков.
П. Кропоткин
Завтра, 5-го, едем туда.
ГАРФ. Ф. 1129, оп. 2, ед.хр. 97, л. 398–401.
Переписка. Т. 2. С.187–189.
Примечание
1. Двухтомный труд французского историка Эдгара Кинэ (Quinet) «La Revolution» вышел в 1865 г. П.А. Кропоткин, очевидно, читал какую-то рецензию на эту книгу, нами пока не разысканную.
Тихонозадонский прииск, 17 июня 1866 г.
Пишу теперь вам, господа, с приисков, из самого центра маслопузского владычества, вот где вдоволь каждый день можешь насмотреться на порабощение рабочего капиталом, на проявление великого закона уменьшения вознаграждения с увеличением работы, и т.д. Управляющий работает часа 3 в день, ест прекрасную пищу (хозяев), рабочий в разрезе стоит в дождь, холод и жар с 4 часов утра до 11 и с часа до восьми, итого, следовательно, 14 часов в день, на самой тяжелой мускульной работе кайлой, лопатой и ломом, получая гроши. Воскресений нет, одежда и пр. вычитается из жалования, а стоимость огромная. Первый получает в год тысячи, второй сотню с небольшим. Другие стоят наготове, чтобы выманить все деньги по выходе с прииска, спаивают его, выставляют женщин, которые у пьяного ночью всё вытащат, и т.д., и т.д. И ругают этого рабочего. Нашего брата запри на 3, 4 месяца в такую работу, лиши всего, давай только необходимое время, чтобы выспаться, не давай ни одного дня отдыха, лиши возможности напиться, забыться, что бы мы надурили! А тут всю вину валят на испорченность рабочих. И, получая десятками пудов золота барыша, эти господа не дают даже рабочим чарки водки каждый день.
А нужно видеть работы. Поляков видел рабочего в шурфе [1] на ¼ аршина в воде, неподвижно стоящего, в то время как другие отливали воду, не сразу понял, что это человек, — и это хоть летом, но на высоте 3000 фут., под широтою 59°, в Азии; следовательно, мож[ешь] представить себе, как холодно бывает к вечеру. Сегодня множество сиплых рабочих после 3–4-дневных дождей.
А физиономии стоит посмотреть, особенно к вечеру, когда народ поистомился: тупоумие, пристальный взгляд. И если не выработает урока — сейчас вычет: 3 человека должны вырубить кайлой и ломом и накласть 62 тележки, а 4-й увезти их.
Здесь еще хозяева хорошие, кормят хорошо (т.е. мясо не часто бывает тухлое), а в других местах? Но и здесь тоже. Если нам, на дорогу из Крестовской с резиденции да с прииска, давали несколько вонючую солонину, то что получат рабочие? Земский исправник получает 2000 рублей от К°, горный — не знаю как (Берюшков); в других местах верно получают. Какие же тут жалобы помогут!
Сколько ни думай, где найти исход, все-таки придешь к убеждению, что ничто не поможет, кроме усовершенствования самой технической части? Либо надо довольствоваться только платой за труд (хозяину), чего нам не дождаться, либо усовершенствовать обработку, облегчить добывание пласта, Впрочем, и это принесет самое незначительное облегчение; пусть добывает машина, но маш[ины] буд[ут] вводить лишь большие хозяева, малые же капиталисты будут все же руками обрабатывать, пока машинное производство не убьет ручного. А когда это будет? Тогда ни одного прииска уже, пожалуй, не будет невыработанного. Пропаганда бесполезна для этих толстокожих — не проймет. Беспроцентность капитала одно из самых главных лекарств должно быть; она и средство к распространению в обществе сознания в ее необходимости, вместе со всею массою тех мер, которые рекомендует Щапов [2] в статье «Реализм в применении к народной экономии» (Палибин); эта статья, надеюсь, вызвала от тебя самые горячие одобрения. Да? Только она же напомнила, верно, и про необходимость технического знания. Если бы мечта Щапова начала осуществляться хотя с одной стороны, чтобы были люди, на которых можно было бы положиться, что дело пойдет сколько-нибудь успешно, то за капиталом авось бы дело не стало — вот хоть бы половина батькиной земли славное основание могла бы положить, другая — на распространение тех знаний, которые могут привести молодежь к сознанию в необходимости подобного же образа действий, как предполагаемый нами. И неужели уже нет и не будут плодиться в России подобные отказы от чужой собственности? Если нам, непередовым людям, могла прийти в Сибири эта мысль, могло развиться омерзение от пользования незаработанным, то неужели в кругу российских баричей еще не найдется десятков, сотен подобных же непередовых и неужели передовые не сделают того же. Быть не может, вернее, что мы не знаем, а оно есть уже и теперь, следовательно, и материал, готовый должен увеличиваться для щаповских ассоциаций.
Пока живу на прииске, ездил на соседние прииски, завтра поеду на один прииск за 40 верст. Занятия исключительно геологией, вернувшись, возьмусь за этнографию, напр[имер]. Мы проживем здесь еще до 1.VII, а потом — в путь; перед отъездом напишу, куда поедем, по какому пути, а сегодня с уходящей почтой пишу наскоро. Вот какая досада, что я не сказал вам писать на Крестовку, на днях придет почта от 5.VI из Иркутска.
Прощай.
П. Кропоткин
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 97, л. 402–403 об.
Переписка. Т. 2. С. 189–192 (с многочисленными ошибками; текст выправлен по рукописи).
Примечания
1. Шурф — вертикальная горная выработка небольшой глубины.
2. Афанасий Прокофьевич Щапов (1830–1876) — историк (был некоторое время профессором Казанского университета), публицист, писатель, философ.
Тихонозадонский прииск, 27 июня 1866 г.
Пишу вам мое последнее письмо из жилых мест, через 2 дня отправляемся в экспедицию, наняли вожаков до р. Муи, а там посмотрим, может быть, пройдем в Читу, может быть, доведется тащиться в Баргузин. Последнее время я провел большей частью дома, писал для Сибирского отдела, между прочим, опять о следах ледникового периода, которых я всё ищу здесь. Неужели климатические условия Европы и Америки не распространялись на Азию, которая в тот период не могла быть под водою, судя по некоторым данным. Через час пришлось идти с молотком разбивать каменья. Еще когда ум работает, возникают вопросы, ладно — а простое описание (при всем сознании пользы такого описания) заставляет порядком зевать. Пора все это бросить и в Питер. Быть может, общественные вопросы займут меня настолько, что оторвут от физики, — пусть к ним все же больше моя душа лежит, чем к геологии или этнографии, которыми занимаешься в экспедициях. Впрочем, экспедиция тем отчасти хороша, что не дает времени задумываться о своем положении. Вот тебе ряд явлений, описывай их, задумывайся над причинами, а в это время выступают новые и новые вопросы — только тайга, однообразие леса дают время на всяческие размышления, но и тут привычка в дороге постоянно замечать всё попадающее на глаза, рассматривать — и тут мешает; кажется, чего однообразнее леса, идущего на десятки верст, но и тут работают глаза, уши, и тут воспринимаешь впечатления окружающей природы, и мозг, хотя работающий в одном направлении, постоянно получает толчки, сбивающие его с рельсов. Только что остановились — снова куча работы: повесь барометр, термометр, а тут еще и есть хочется, потом надо разбирать собранные породы, вписать их в каталог, наклеить ярлычки и пр[очая] механическая работа, а затем дневник надо писать, а тут ко сну клонит, не выспался в течение 5 часов. И так весь день — на механическую работу столько времени уйдет, — необходимо держать всё в порядке, а то через 10 дней такая каша будет, что ничего не разберешь… Поэтому я усердный проповедник порядка в дороге, а то Поляков — и сравнить со мной по беспорядочности нельзя, — у него вечно «Мамай воевал».
И так иногда несколько дней подряд — не успеваешь опомниться. Не знаю, полезна ли такая жизнь, но я по несколько раз в день иногда повторяю себе: «В Питер непременно, будь что будет». Весело ли хоть теперь быть нахлебником у этих маслопузов, жить на их краденом хлебе? [1] Конечно, езди я хоть от Сибирского отдела, — ведь такие же были бы деньги, все же как-то легче было бы, но утешаешь себя тем, что без помощи капитала наука не могла бы двигаться вперед, — какая наука могла бы существовать на деньги исключительно трудовые теперь, при теперешнем распределении богатств? А без этой науки и пролетарию никогда не выбиться, но лучше сознавать себя таким же пролетарием хотя и с умственным капиталом, которого он не имеет, лучше искать такой работы, от которой польза была бы прямее — искать, потому что кто может поручиться, что его работа именно будет такою. А тут хоть утешаешься тем, что сбыт откроется скоту, но если доискаться, au fond [2], как ты говоришь, чей же скот-то будет? Капиталиста же!.. Да еще и сбывать-то почти нечего. Нешто скот в Чите так баснословно дешев? Мясо те же 4 коп. фунт, что и в Москве было на моей памяти. Теперь такая работа нужна, которая подрывала бы значение капитала, а не то что приносила бы ему пользу, хотя бы то и была грошовая польза. На подрыв капитала надо употребить силы, а не на поддержку, хотя бы самую косвенную. А где может быть подрыв — в пропаганде создания общественных капиталов или в основании капиталов, предназначенных для этой пропаганды, наконец, в подрыве прямым путем при помощи ассоциаций? Только ту деятельность, которая направлена либо на прямой подрыв капитала, либо на расширение способов к его подрыву и увеличению жаждущих этого подрыва, — только эта деятельность и должна бы, по-моему, быть полезною, следовательно, и нравственною в настоящее время, Когда этот вопрос на очереди. Кинэ [3] в книге о революции ту же мысль отчасти высказывает, когда говорит о необходимости подрыва религии и экономического переворота. Если люди будут готовы совершить этот подрыв, тогда только революция принесет большую пользу (я не говорю о маленьких переворотах с целью вызвать частные уступки, ведущие к этому подрыву). Такие перевороты должны быть полезны, я думаю.
Впрочем, — «думаю», — такое у меня полное незнание истории позднейшего времени, такая пустота относительно общественных вопросов, что нужно будет много и много позаняться этим в Питере. Толкуют, что нация виновата в учреждениях, которые лишают народ свободы, — справедливо, — а потому, мол, перевороты ни к чему не ведут. Конечно, если передовые люди нации, те, которые после удачного временного переворота захватывают власть, и те не вырабатывают прогрессивных воззрений, а только лоскутками хотят их осуществить. Если бы временное правительство во Франции, захватившее в руки власть в 48-м году, было в большинстве настолько развито,одобрить банк Прудона или передачу банка в государственную собственность, их скоро бы прогнали, может быть, но факт бы существовал, верни-ка назад. Ничего, что в нации не нашли бы поддержки, — поддержка была бы в рабочем, пускай бы попробовали тягаться. И, само собою, не одна эта мера, а целая совокупность. А то станут толковать об непрочности переворотов, затеянных передовыми людьми, но не поддержанными нацией. И люди-то были не передовые, — в этом вся суть, и нация поэтому только не поддерживала их. Неужели ждать равномерного распределения образования в народе, коли все учреждения мешают этому уравниванию, да и когда он и подвинется на 10 шагов, передовые (это не высшие классы, помнишь наш спор) будут стремиться к еще более совершенным формам, которые также не в силах будут осуществить. Рабочий догонит эти высокие классы, догонит и передовых, если передовые позаботятся снять помехи, — капитал прежде всего и влияние попов, где оно сильно.
Пересматривая «Загр[аничный] вест[ник] [4], я увидел, что в заметках по общественным вопросам прорываются некоторые вещи, которых цензура не допустила бы в изложении, а допускает в переводах, не допускала бы вообще в русских журналах. Если это справедливо, то это очень важно. Заметь, что позволяют говорить об иностранных правительствах и вопросах политики европейской несравненно больше, чем в приложении к нам. Это указывает на то, какое влияние воспитательное мог бы иметь переводный журнал, посвященный переводам или выпискам по общественным вопросам, в сопровождении подрывательных статей по естественным наукам. С строго определенным направлением, со статьями не случайными могло бы выйти преполезное издание, хотя нужно было бы много времени ждать, чтоб оно окупалось.
Впрочем, болтать с вами некогда.
Высылай вещи в Читу и пиши, не забудь сапоги и калоши, а то мои совсем разорвались, вообще истаскался, штаны и те единственные дерутся.
Два дня была страшная зубная боль, вырвал зуб, разворотили мне челюсть — и, что еще хуже, завтра ехать надо, а проболит еще дня 4 — вот уж это скверно.
Ну, прощайте теперь, нечего ждать вам от меня писем, самого ждите в начале октября.
Выпиши немедленно книгу. David Page, Geology for general readers [5].
П. Кропоткин.
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 97, л. 404–407 об.
Переписка. Т. 2. С. 192–196.
Примечания
1. Олекминско-Витимская экспедиция была снаряжена на средства ленских золотопромышленников.
2. по существу — (фр.).
3. П.А. Кропоткин читал какой-то труд о книге французского историка Э. Кинэ «La Revolution», вышедшей в 1865 г. См. письмо от 4 июня 1866 г.
4. Ежемесячный журнал, освещавший литературную жизнь за рубежом, выходил в Петербурге в 1864–1887 гг.
5. Дэвид Пэдж, Популярная геология — (англ.). Братья Кропоткины перевели на русский язык его книгу: Пэдж Д. Философия геологии. Краткий обзор / С английского перевели П. и А. Кропоткины. — СПб., 1867.
Витим, устье Тиники, 10 июля 1866 г.
Пишу тебе с берегов Витима, мы уже 9 дней в походе и с грехом пополам выбрались сюда. На прииске я хворал последнее время, мне выдернули зуб и потревожили здоровый, челюсть (лунку) немного разворотили, и боль была страшная. Теперь мы идем себе помаленьку и прошли уже 110 верст, следовательно, 1⁄7 пути. Путешествие наше незавидное; во-первых, дорогой страшно утомляет безделье, нужно 6–7 часов ехать, и ничего не видишь, нет никакого разнообразия, не над чем подумать, лес, да лес, и лес, да грязи, да мох. Наконец последние дни, видя, что вожак ведет нас нехорошо, лупит тунгусской оленьей тропой, не разбирая грязи, я, обязанный заботиться о благополучном ходе экспедиции, должен был поехать с вожаком выбирать места… Невесело, скучно безделье, никакого умственного труда.
Раз как-то рано пришли на привал, а горных пород я не собрал, писать почти нечего, я мог приняться за Сегэна, с полчаса читал среди разговоров в палатке — какое тут чтение. К тому же разные мелкие неудовольствия, топограф ворчит что-то, другие тоже, что работы много и что топограф ничего не делает. Теперь я принялся сам развьючивать коней, ставить палатку и пр. Всё же облегчение конюхам, да и другие меньше ворчат и немного больше делают. Поляков зато — утешение, единственный человек наш, поговорить с ним можно иногда, когда у него дела меньше. Впрочем, ему дела много, пожалуй, больше, чем мне. Вообще всё бы это ничего, я не огорчаюсь нисколько мелкими неприятностями, улаживаю их и т.д. Скучно, что время даром идет, и привыкаешь целые дни ничего не делать, не знаю, может быть, дальше будет интереснее, а то едешь несколько дней, даже, например, обнажений не видишь, а кругом в тайге ужасное однообразие.
Вообще мы устроились недурно, большущая палатка, поперек выстраиваются наши ящики, сзади на треножнике ставится барометр, выкладывать удобно, все под рукою, как дома, занимайся только, переезды только скучны.
Это письмо пойдет с тунгузами, которые снизу привели нам лодку для переправы через Витим, оно, должно быть, будет последнее.
Крепко обнимаю вас, ребята, и завидую вам, тридцать раз вспомнишь, что вот-де в Иркутске живут, занимаются вдоволь, потом вспоминаю, ведь надо же кому-нибудь прокладывать новые пути, а если пройдем, то и для географии, и для промышленности будет польза, и успокоишься.
П. Кропоткин.
Прощайте.
Поляков нежно целует твою плешь, а моя твою догоняет. Так и лезут волоса. Пиши в Читу побольше, авось в сентябре, в конце, доберемся
до жилья.
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 97, л. 408–409 об.
Переписка. Т. 2. С. 196–197.
Устье реки Муи 26/VII 1866 г.
Ну, Саша, пишу тебе с устья Муи. Треть дороги уже сделали, теперь осталось всего каких-нибудь сто верст, правда, через очень скверный хребет, и мы будем в таких местах, которые находятся в удобном сообщении с забайкальскими приисками, а на этих приисках бывал едущий с нами господин из Читы. Следовательно, теперь уже я не теряю надежды быть в Чите. Шли сносно, скучно иногда, нет ни обнажений, ничего интересного, тайга, — знай только, глаза оберегай. Были и разные дрязги, которые мне приходилось улаживать. Собралось несколько человек — одни работают физическим трудом, другие умственным, столкновения неизбежны. Первые считают, что вторые ничего не делают, казаки в грош не ставят сидения до 12 часов [ночи] при вставании в 6 и т.д. На меня уже не дуются — начальник,, так и должно, ну, да и к тому же князь, великая персона, стало быть, а вот на Полякова дулись, мелочи все это, ну, колеса скрипят, и дело начинает идти плохо. Впрочем, теперь это удалось, Поляков чрезвычайно уживчив, работает вдосталь, ну и объяснились маленько, теперь колеса не скрипят, да и места пошли получше.
Сидя в Иркутске, трудно вам даже составить себе понятие о таежных удовольствиях. Здесь, на Муе, такие несметные силы комаров, что до сумасшествия (временного, утешься) можно дойти и тебя 30 раз вспомнишь с твоими проклятиями лету. Жара более 22°, дымокур в палатке, следовательно, угар, — мерзость порядочная. Два дня ничего не в состоянии был сделать, подумать не в силах в жаре, среди мошки, дураком валяешься, весь мокрый; ждем не дождемся второй половины августа. Как все это благодетельно должно действовать на мозговую деятельность! 5–6 лет так провести — хорошо отупеешь.
Ну, да последняя командировка, думаю весной в другой путь направиться, — утешься.
Во второй половине или в конце сентября ждите домой, писем не ждите, теперь мы к Иркутску ближе будем, чем [к] промысла[м].
Пишу с вожаком, пожалуй, еще не дойдет письмо.
Прощайте, ребята.
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 97, л. 410–410а об.
Переписка. Т. 2. С. 198–199.
Прииск Серафимовский (на М[алом] Амалате), 22 августа 1866 г.
Скоро, наконец, мы доберемся до места, мы уже на прииске Забайкаль[ской области], на Малом Амалате, который можешь найти на маленькой карте Шварца, и рассчитываем через 20 дней быть в Чите, так что между 20-м и 30-м я, вероятно, буду в Иркутске. Пора и очень пора, холодновато становится (снега уже были), от постоянной сырости и странствования пешком в болотах у меня делается сильная ревматическая боль в коленях и вообще в ногах, да и надоедает-таки.
Здесь мы узнали о польском возмущении за Байкалом [1], отряд Лисовского [2] у меня как бельмо на глазу, тебя не посылали ли?
Скверность могла выйти. Этакая мерзость. Здесь же прочли циркуляр царя о нигилистах, мешкать дольше нечего, авось пригодимся на что-нибудь.
Скоро, значит, свидимся, тогда потолкуем, теперь прощайте, ребята.
П. Кропоткин.
23 августа 66 г. Прииск Серафимовский
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед.хр. 97, л. 411–411 об.
Переписка. Т. 2. С. 192–200.
Примечания
1. Восстание ссыльных поляков на Кругобайкальской дороге произошло в августе 1866 г. Кропоткин присутствовал на суде и дал о нем подробный отчет, который целиком помещен в «Биржевых ведомостях» (1866, № 301–303, 305, 307, 312) и перепечатано в сб.: Памяти Петра Алексеевича Кропоткина. Пг.; М., 1922. С. 123–172.
2. Офицер Лисовский был назначен командиром полка командовать вместо отказавшегося Александра Кропоткина казачьей сотней, посланной на подавление восстания поляков.
1867
Иркутск, 3 апреля 1867 г.
Теперь, вероятно, скоро поеду, — около 10-го (10–15) [1]. Вчера был у Кукеля, и он говорил, что Шелапутину нужно посылать курьера в Петербург, так как есть бумаги по Главкому Управлению. Дела свои кончаю, и во всех работах в первую очередь идет сейсмограф [2]. Теперь опять переделали его, выстроили каменный столб, — совершенная обсерватория. Возни куча, — каждый день по несколько часов, зато будет хорошо. Завтра делаю опыт — будет великое торжество. Процессия от всех сословий по утвержденному церемониалу, с артиллерией. Просил Кукеля, чтоб заставил артиллерию проехать мимо здания Сибирского отдела [Географического общества], посмотрю, какое действие будет оказывать это на мой инструмент (должен бы показать землетрясение). Карту кончаю. Она будет стоить мне рублей 60, но это вознаградится гонорарием. Прочие занятия идут очень плохо, позаймешься утром у сейсмометра, утомишься, да и мозг, направленный в одну сторону, так и работает, вечером ничего не в состоянии делать, видаюсь каждый день с Зотиковым, да и веду с ним разные физико-математические споры, мало дают результатов, кроме того, что с ним больше сошлись.
От тебя получил письмо из Казани. Ждем не дождемся писем из Петербурга. Теперь ты, поди, в хлопотах сильных, жаль, что меня нет, пособил бы.
П. Кропоткин
Переписка. Т. 2. С. 201–202.
Позднейшая карандашная приписка рукой П.А. Кропоткина: «16 апреля, в пасхальную ночь, выехал курьером вместе с Палибиным из Иркутска в Петербург, прощаясь с Сибирью под выстрелы пушек (Пасха), когда мы переезжали Ангару».
Примечания
1. А.А. Кропоткин вместе с женой уехал из Иркутска в Петербург в январе 1867 г. П.А. Кропоткин остался на некоторое время в Иркутске, чтобы закончить свои дела по службе.
2. П.А. Кропоткин организовал в Иркутске сейсмическую обсерваторию с самодельным сейсмографом для регистрации землетрясений в пределах Иркутской губернии.
Никольское, 20 июня 1867 г. [1]
В последний день, что я провел в Москве, я все делал новые знакомства. От Траутшольда [2] я вернулся просто в восторге. Меня встретил седой, с длинными волосами, откинутыми назад, старик, бодрый, живой (с весьма симпатичной физиономией). «Совет один, — говорит он, — собирайте возможно больше, ничего не пропуская. У вас, верно, нижний ярус горного известняка, вот книжка, где вы найдете кое-что о здешней флоре в связи с каменным углем. Может быть, найдете каменный уголь», — и Траутшольд подарил свою статью «Über die Kohlen von Central Russland» [3]. Сперва он не знал, чем еще мне пособить, но когда я сказал ему, что с палеонтологией вовсе не знаком, то он принялся меня знакомить с самыми характерными ископаемыми различных ярусов горного известняка. Целый час он читал мне целую лекцию практической палеонтологии, показывая те ископаемые, на которые надо особенно обратить внимание (из своей огромной коллекции); про Юру у нас в Никольском ничего не известно. Правда, некогда она, по-видимому, покрывала всё пространство Московского бассейна, и теперь от нее осталось множество клочков, но собственно в Мещовском уезде она не показана на картах. Как образец здешней Юры могут служить окрестности Москвы, почему он и подарил мне описание юрских образований в Галеве с чертежами характерных ископаемых. Его лекция произвела на меня самое благоприятное впечатление. Он и его племянник наперерыв старались показать, на что обратить внимание, какое ископаемое легко пропустить и т.д.
В этот же день был у Баснина, — отца Цэкутского [4], — славный старик, большой почитатель моих корреспонденций.
Вечером был у Меморского, окулиста, очень молодого и замечательного по своей диссертации, недавно написанной на степень доктора. Его рекомендовал мне Пономарев. Хороший парень. Я пошел просить у него гигиенических советов. Мои глаза, говорит он, совершенно исправны, есть mouches volantes, но это ничего не значит, миопия не усиливается, но, вследствие близорукости, для чтения он прописал мне очки № 60. Для смотрения вдаль, если нужно, лучше употреблять пенсне, чем очки, пользуясь ими лишь настолько, насколько они необходимы. Но я терпеть не могу пенсне, как потому, что все пшюты [5] его носят, так и потому, что жмет нос и сидит всегда криво; первую причину я бы устранил, но боюсь повредить глазам неправильным положением пенсне, а потому взял очки № 13, он разрешил до № 10. Я заехал к хорошему оптику и взял очки.
Вечером я выехал с Елизаветой Марковной в Калугу на Козле [6]. Добрались на другой день поздно вечером. Дорогой, по шоссе, где-нибудь в гору, я слезал и собирал камни из куч, наваленных на дороге. Субботу мы пробыли в Калуге, ждали лошадей от отца.
В Калуге меня поразил наш дом, — барство, барство, — слово, которое я сотни раз повторяю с тех пор, как в Москве опять попал в этот подлый круг. Всё на показ, ничего для себя в обыденной жизни. Дом переделали, — арки, паркеты (500 руб.), мебель, рояль. Теперь решили было продавать, но оставшись на неделю в Калуге, батька снова принялся его перекрашивать и переделывать. Вечера, балы, хоть изредка, то же и в Никольском. Как только подъехали к крыльцу, мне отвратительно стало. Неподдельная радость батьки немножко ослабила впечатление. Полинька — дура, и скверная дура, всё те же тенденции, целый день ничего не делает (неразвита, необразованна). Милая Верочка, я сотни раз в день вспоминаю твою фразу, как-то раз сказанную особенным тоном в Иркутске: «какие все они противные». Кошк[аревы] ждут, чтоб ловить меня в женихи. Яковлев в Калуге тоже. Здесь не дают покоя, ухаживания их отвратительны, глупы, надоедают.
Все глаза выпучили, как это я сам умывался, сам сапоги снял. Полинька тоже. Заниматься мешают. Вчера ушел в 11 часов, чтоб встать в 6 ч. Нужно так устроиться, чтоб утром до 9-ти иметь возможность заниматься. Сегодня отец просил наблюдать за постройкой моста, самому ему нужно было в Басово [7] ехать, и я все утро был на постройке.
О тебе отец и не заикается, письмо получил и никому про него не говорил, теперь избегает всяких разговоров, — да и вообще я с ним поговорил только в день приезда, а вчера он в Мещовское ездил.
Вот горе-то, — каменоломня заросла совсем, ничего не видно на том месте, где она была, никаких обнажений вовсе нет, кроме глин в оврагах, да и то склоны заросли большей частью травою, даже обвал Серенской крепости [8] и тот зарос. Говорят, в Каменке ломают камень, туда надо съездить. Вдоль по Серене на далекое расстояние не видно обнажений. Вообще не знаю, где и найти обнажения, где бы было видно что-нибудь, кроме диллуви[альных] пород.
Вообще читать и заниматься мешают донельзя, особенно Полинька, которая полюбила меня очень и беспрестанно отвлекает от дела. Вот неразвитость-то! Замечательная! Дальше французской литературы, т.е. краткого перечня французских писателей, которые теперь забыты, — и не пошла. И говорят, в Калуге все барышни, за исключением одной, такие же. Много можно ожидать! Не говоря уже о Поплавской, Баснина, Рейн сравнительно с ней ученые.
Письмо залежалось. Отец ездил в Мещовск, но я с ним не посылал, теперь пошлю с Елизаветой Марковной, которая едет в Калугу.
П. Кропоткин
Переписка. Т. 2. С. 202–205.
Примечания
1. П.А. приехал в Никольское 18 июня.
2. Герман Адольфович Траутшольд (Hermann Gustav Heinrich Ludwig Trautschold, 1817–1903) — геолог и палеонтолог, специалист по палеонтологии и стратиграфии каменноугольных, юрских и меловых отложений Европейской части России.
3. См.: Auerbach J., Trautschold H. Über die Kohlen von Central-Russland // Nouveaux Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. — 1860. — T. XIII.
4. Так в публикации. Очевидно, следует читать «Иркутского». Баснины — обширный иркутский купеческий род.
5. пошляки.
6. Козел — прозвище ямщика Козлова, возившего пассажиров на своих лошадях из Москвы в Калугу и обратно.
7. Басово — село приблизительно в 7 км к югу от Никольского, принадлежало отцу Кропоткиных.
8. Серенское городище расположено рядом (через речку Серену) с Никольским, находится на месте древнерусского (вятичского) города Серенска.
Никольское, 23 июня 1867 г.
Вчера вечером говорил с отцом о тебе, читал ему нотации и т.п. Нужно было видеть, как он окрысился, — «я его не считаю своим сыном, он безбожник, сам отрекался от меня, он клочка земли не получит» и т.д.; я грызся, сцепился, уж нервическая дрожь у меня сделалась, насилу Елизавета Марковна успокоила, да и он стал разговор переводить на другое. Затем оба успокоились, принялись рассуждать хладнокровно, по поводу исчезновения Коли [1] я ему прочел нотацию о семейных отношениях, он его хотел бы видеть, и нотация пришлась кстати. Затем я стал говорить о заграничной жизни, привел Семенова [2] в пример. Отец знал его отца или деда. «Большой литератор был, великолепно говорил и очень любил говорить». Затем говорю, что моя задушевная мечта была бы слушать лекции в германском или французском университете. Он мне возразил: «Не век же учиться». — «Я молод, 24 года» и т.д. «Так ты думаешь оставить военную службу?» — «Не знаю, ничего не решил еще, вот в августе приедет Корсаков, ну, да и вы, может быть, будете против этого». — «Нет, отчего же, если ты в себе чувствуешь наклонности быть ученым, твое дело, — профессором будешь, прославишься». Только советует не менять начальников, Корсаков, мол, тебя знает, доверяет, через два года будешь майор и т.д. Он вообще советует вернуться в Сибирь. Но его ответ меня удивил, хотя причина его понятна. Если так, то и прекрасно, а то если мне ничего не оставит, то и тебе тоже, имение попадет к Елизавете Марковне — в наших руках оно полезнее будет.
Интересно видеть его с здешними крестьянами, — ссора полнейшая, он у них оттягивает землю, — они ничего не хотят делать, крестьяне наши вообще бедны, и есть голые бедняки, но и те по решению общества ни в какие работы к нему не нанимаются, хотя иногда приходят просить хлеба, и он им дает. Богатые не нуждаются и заставляют бедных действовать с ними заодно. Отец теперь хочет поставить караул у моста и богатых никого не пропускать. Ссора дошла до того, что вчера на ярмарку едут мужики, другие поднимают бревно и не могут справиться, одно бревно надо перевезти. Отец просит проезжающего подсобить, тот стегнул лошадь и поехал дальше.
Отца это возмущает, теперь ему на каждом шагу приходится кланяться и просить, чтоб они что-нибудь сделали, можешь вообразить, как это на него действует.
Видел на днях твою кормилицу, которая обрадовалась, когда услыхала про тебя, она зовет тебя не иначе, как «мой князинька».
Третьего дня съездил, отмежевал землю, 52 десятины, старосельским крестьянам, целый день пропал. Зато в мое отсутствие мост кончили. Крестьяне пожалели меня, что я целые дни сижу, во-вторых самим нужно было луга брать внаймы. Они воспользовались тем, что Елизавета Марковна уехала в Калугу, и пришли мириться с отцом. Они его положительно любят. Все выпили, его старики просто на руках готовы были таскать. Елизавету Марковну все терпеть не могут. Теперь полнейшая дружба, косят сено, вчера совсем кончили мост (бесплатно) и т.д. Я очень доволен, что сбыл с рук работу. Пишу помаленьку отчет, но хандра что-то одолевает. Неудобно заниматься, ничего не читаешь. На сон грядущий ½ часа читаю статью Жуковского [3], — полезная, дает ключ к пониманию двух направлений в политической экономии, для меня это ново.
Теперь переписываю уже отчет, но начала все-таки нет, а без него ничего нельзя сделать. Полинька принялась подсоблять, но вчера в день переписала 2 страницы, напишет 10 мин. и бросит, а потом и вовсе ничего не делает. Вот невежество-то круглое! Даже самые названия: ботаника, зоология и пр., ей дики — «литература» конец всех премудростей.
По вечерам мы ездили с ней верхом, но она страшно трусит, ее лошадь, водовозка, иначе как шагом и самой убийственной рысью не ездит; прочие пугливы, беспрестанно бросаются, из седла вышибут, ну, и ездит шагом, скука страшная, а между тем ей хочется ездить, жалко не брать ее с собой; так же и во всем, — мешает, а сказать «не мешай» — жалко. Беспутная девчонка! Взяла Фарадея, прочла 8 страниц в 3 дня и не берет больше.
Вчера пришла почта от 18-го из Москвы, от тебя нет писем. Толмачевская гора была у меня в памяти как большая гора, теперь же стал спускаться, уж и конец горе, пруд в Басове тоже какой-то маленький, все ужасно маленьким кажется.
Ну, прощай.
П. Кропоткин
Переписка. Т. 2. С. 205–207.
Примечания
1. Николай Алексеевич Кропоткин — старший брат Александра и Петра. Служил офицером на Кавказе, много пил и отец отдал его «на послушание» в монастырь Владимирской губ., откуда он бежал и пропал без вести.
2. Петр Петрович Семенов (будущий Семенов-Тян-Шанский, 1827–1914) — географ, был слушателем Петербургского, а затем Берлинского университета (слушал лекции, в частности, немецкого географа Карла Риттера). В 1864 г. был назначен директором центрального статистического комитета — эта должность, видимо, имела чрезвычайно серьезное значение в глазах А.П. Кропоткина.
3. Юлий Галактионович Жуковский (1833–1907) — публицист и экономист, сотрудник «Современника» и «Отечественных записок», позднее — «Вестника Европы». В 1867 г. вышла его статья «Прудон и Луи Блан», видимо, именно ее читал Кропоткин.
Никольское, 28 июня 1867 г.
Какая великолепная была сейчас гроза, она теперь снова начинается, но в другой форме, я в жизни не видал такой грозы, — такой массы накопившегося электричества и такого способа разряжений. Отдельных ударов совсем не было, а непрерывное, без преувеличения, освещение ¼ неба яркий фосфорическим светом, гром гремел изредка; хотя гроза была близко от нас, но молния за молнией освещали Никольское так великолепно, что я не мог оторваться от окна. Такая гроза — счастье. Если бы это громадное количество накопившегося электричества разряжалось ударами, то оно наделало бы, пожалуй, страшных бед. А действительно было с чего накопиться электричеству. Вчера вечером шел проливной дождь, который воочию сделал из Каменки [1] (я был у Кошкаревых) из ручейка в сажень шириною речку в 4–5 саж. В самом узком и глубоком месте; рев какой поднялся — как на Иркуте. Сегодня безоблачный день и страшная жара. Испарение должно было быть крайне быстро, и следовательно бездна работы и тепла перешло в электричество.
Мои геологические изыскания подвигаются; впрочем, только две экскурсии удалось сделать в овраг, который идет позади села (по дороге в Каменку). Теперь я исследую нижнюю его часть, до вершины еще далеко, — кажется, девонширская формация, — а сверху ее форменные горные известняки с каменным углем. Каменный уголь уже находил оба раза в русле ручья, низкого качества, но все-таки сносный, горит хотя с пламенем, но сильно, запах серный не силен. В одном куске бездна серного колчедана. Кошкарев говорит, что ему раз приносили целую плиту каменного угля из этого оврага, залежи не видал, может быть — выше. Журнал геологических изысканий принялся писать по-немецки — практика.
Только мешают все.
Дома ужасная кутерьма. Был с отцом эти дни в ладах, грызся только по вопросу о тебе. Два дня тому назад он вздумал во что бы то ни стало поссориться с Кошкаревым, придрался к пустякам несправедливо и сел писать громаднейшее громоносное письмо. Больше часу возился с ним, покуда я не уговорил его не писать подобного письма, написал другое, помягче, но все-таки невежливое. В этот день мы должны были ехать обедать к ним и, конечно, не поехали. Вчера я поехал с визитом к соседям, в том числе и к Кошкареву. Он все время ворчал, хотя знал заранее, что я буду у Кошкарева, за обедом стал сильнее ворчать, «вот загонят лошадей, поехал к моему врагу», — напустился на мачеху. Предлогом было то, что она смела сказать экономке «вы», мачеха не раздражала больше, но он дошел до неистовства… хохот истерический и проч. и проч. Он спал, когда я вернулся, мне всё передали, но просили не показывать виду. Впрочем, он сам рассказал. — «Меня рассердили… экономке и вдруг вы», о Кошкареве мне ни словечка, мачехе всё говорит — «поехал к моему врагу — хорош».
Завтра Мещовская ярмарка, он всё советуется с кучером, другим никому ни слова, завтрак наверно не обойдется без скандала. Я бы одного только желал, чтобы он уехал один, но он будет и меня звать. Я бы начисто отказался ехать вдвоем с ним — произошел бы маленький скандал и только. Но мачеха и Полинька упрашивают не затевать, он всё на них выместит, приходится потакать ему ради них, так как на них, как на беззащитных, которых можно и поколотить, он набросится, как зверь, из-за пустяков. Недаром Полинька повторяет то же, что говорила и Леночка, что она за первого встречного готова выйти замуж, лишь бы избавиться.
Все это подло, глупо, но все это задевает за больные струны, сердит, ко всему этому невозможно оставаться безучастным.
И какой он подлый, хоть бы на меня напустился, — так нет; то же самое и сегодня, отколотил повара, я говорю: «Вот попадете к мировому, отсидите неделю под арестом, отучитесь драться». — «Я, — говорит, — без свидетелей бью…» Я говорю: «Что это, по-вашему, честно, тайком, — нутка гласно, при всех, посмотрим». — «Что ты меня все честностью попрекаешь».
Прощай.
П. Кропоткин
Переписка. Т. 2. С. 207–209.
Примечание
1. Каменкой Кропоткин, видимо, называет речку Клютому (по лежащей на ней деревне Каменке), левый приток Серены.
Никольское, 8.VII. 67.
Черт знает что делает почта! Все еще нет посылки. Авось послезавтра придет. Кошкарев тоже ждет посылку, высланную из Москвы 20/VI, и той нет. Я напишу в «Московские ведомости» об этом. Уссурийского письма до сих пор не печатают.
Геологические исследования подвигаются медленно. Вчера обошел по берегу Серены, по реке Каменке, от устья до Барятина [1] (выше я раньше видел). Чрезвычайно мало обнаружил, и всё поверхностные слои. Каменного угля нет нигде, кроме Никольского оврага, так что не придется дать более верных сведений о положении каменного угля. Да все мешали дожди и разные ярмарки. Сегодня встал рано, но никуда не пошел, — проливной дождь, — а идти далеко, мокнуть насквозь неохота — в пальто жарко. С лошадью тоже неудобно, привязать негде, впрочем, в дальние экскурсии буду брать ее и оставлять в деревнях. Ноги действительно нужны геологу. Вчера исходил верст около десятка, да всё по оврагам. Мужики крайне удивляются — как это я с мешком за спиной и молотком на плече как мужик хожу. Мне одна баба целые полчаса сегодня об этом говорила, чуть не за шального считают.
Я бы охотно остался здесь до 20-х чисел июля, всё же что-нибудь сделаешь. Ископаемых нахожу много, — до 50 номеров теперь уже собрано — превосходные кораллы и пр. На днях пойду вверх по Серене до Староселья, там тоже ломают камень.
Отчет [2] кончаю, жду только бумаг, чтоб закончить и отослать.
Завтра и послезавтра опять пропавшие дни, завтра гости, будут танцевать часов до двух, встанешь не раньше 10-ти, усталый, все удовольствия, одним словом.
Деньги так и летят. Мещовская ярмарка стоила мне больше 10 р., я уже занял 20 у Елены Марковны, нужно будет сегодня людям кое-что подарить и еще расходы.
Музыканты едут сейчас в Мещов. Отсылаю письма.
П. Кропоткин
Переписка. Т. 2. С. 209–210.
Примечания
1. Село Барятино на рч. Клютоме (Каменке) выше дер. Каменки, до него от Никольского 4–5 км.
2. См.: Олекминско-Витимская экспедиция для обследования скотопрогонного пути с Олекминских приисков в г. Читу (Краткий отчет). прилож. 2-е к отчету о действиях Сибирск. отд. РГО за 1867 г. // Изв. Русск. геогр. о-ва. — 1868. — Т. 4, № 1, отд. 2. — С. 90–127. Полный отчет об экспедиции был издан как т. III Записок Русского географического общества по общей географии в 1873 г.
Никольское, 13 июля 1867 г.
Сегодня едем в Мещов, а оттуда к одним соседям — Степановым. Беда с этими визитами, и отчет и геологические розыски стоят. Ну, можешь себе представить, — до настоящего времени еще не был в Серенских оврагах.
Я думаю выехать отсюда 23–24-го, пробуду дня 2 или 3 в Москве, чтобы переговорить с Траутшольдом и разобрать ископаемые, следовательно 29-го, 30–31-го буду в Петербурге. Присмотри к этому времени квартиру, главное условие — недалеко от университета, а то утром бегать далеко неудобно, до Публичной библиотеки можно будет доезжать.
Ужасно мне не нравится, что нам всем кагалом жить придется, ну, да это можно будет устроить. Затем другое условие, жить возможно дешевле, не дороже 400 руб. в год с рыла. Неужели мы на 1200 р. не можем хорошо прожить втроем? настолько хорошо, чтобы это не было отяготительно для Верочки. Если тебе не будет недостатка во времени, ты в случае крайности возьмешь переводы, а в первую зиму мне это будет невозможно, — статья на носу, когда еще кончу. Лучше переносить маленькое неудобство от ребенка, чем заваливать себя непосильной работой, а я без того плох, сам, я думаю, видишь, что далеко нет той подвижности, которая была года три тому назад.
Целый месяц шалопайничаю, а все-таки слаб, хотя вполне здоров, а все-таки утомляюсь ужасно скоро. Нечего и толковать тут, надо жить вместе, только надо вспомнить твою московскую жизнь и к ней приноравливаться, — если это возможно с ребятами и с горничной… Попытаемся, впрочем…
Скоро свидимся.
П. Кропоткин
Переписка. Т. 2. С. 210–211.
Никольское, 16 июля 1867 г.
Я очень рад, что кончается мое пребывание в Никольском, хотя с удовольствием еще прожил бы здесь, если бы мог жить сам по себе, но в семье — каждый день брань, ругань. Ездили с отцом за Мещов, всю дорогу он меня вооружал против Елизаветы Марковны. Я ему сказал про нее несколько слов вскользь. Он ей передал, перевравши и прибавивши втрое и т.д. Ссоры каждый день.
Не менее этого утомительны и постоянные разъезды по соседям, ездили почти каждый день, а знаешь, дворянское посещение продолжается неизбежно либо всё время после обеда, либо весь день. Геология страдает. Вчера только утром и то поверхностно осмотрел Серенские овраги, в Староселье [1] и на хуторе только мельком смотрел с лошади. Ничего не успеваешь сделать. Хорошо, что не без пользы съездил за 35 верст к одним соседям. У них Юра и бездна ископаемых, я целую корзину привез.
25-го я выеду отсюда, остановлюсь на 2–3 дня в Москве, 30-го или 31-го буду в Птб.
Ну, прощайте.
П. Кропоткин
Переписка. Т. 2. С. 212–213.
Примечание
1. Деревня в 4,5 км от Никольского выше по течению р. Серены.
1868
Милостивый государь Федор Романович!
Как Вам известно, в бытность мою на Вознесенском прииске Олекминской системы, я получил от Управляющего прииском, М.С. Игнатьева, журнал метеорологических наблюдений, за 8 лет (с 1858 года). Обработку этого журнала обязательно взял на себя г. Ф. Мюллер, и перевод статьи, написанной по этому поводу г. Мюллером, предназначается для Записок Географического Общества.
Хотя уже заранее можно было предвидеть интерес, представляемый журналом наблюдений температуры под 59½° с.ш. и 133° в.д., на высоте около 2450 ф. над уровнем моря, как потому, что до настоящего времени не имелось наблюдений из этой местности, представляющей как бы центр треугольника, образуемого Якутском, Иркутском и Нерчинском, так и потому, что г. Игнатьев вел журнал наблюдений исключительно для себя, ради собственного интереса, из любви к делу, а потому вел его удивительно тщательно, — но вполне выказался интерес наблюдений в этой местности и на такой высоте, только после обработки г. Мюллера.
Из статьи г. Мюллера оказывается, что климат Вознесенского прииска представляет неожиданные аномалии, которые, в сущности, сводятся на то, что Вознесенский прииск обладает климатом гораздо менее эксцессивным, чем любая из местностей Восточной Сибири, из которой мы имеем наблюдения (за исключением Восточного побережья). Эта меньшая эксцессивность происходит от того, что температура зимы на 4–5° теплее, чем бы ей следовало быть по сравнению с соседними местностями, температура же лета на 4° холоднее.
Как ни важен факт сам по себе, но еще важнее его причины, о которых мы можем пока только догадываться. Если влияние Байкала, на которое указывает г. Мюллер, может объяснить понижение летней температуры, то повышение зимней остается неразрешимою загадкою, если не прибегнуть к влиянию более теплых воздушных течений, не ощутительных под широтою Иркутска и Якутска на тех высотах, на которых лежат эти города (1200 и [300] ф.), но ощутительных на высоте 2500′ и под 59½° с.ш.
Г. Мюллер, при недостатке других данных, сопоставляет данные над состоянием неба и ветрами с температурою и разбирает, т.о., основательность подобного предположения. В заметках о климате я приведу, с своей стороны, несколько фактов касательно того же предмета; здесь же, приводя факт выступающий наружу из наблюдений г. Игнатьева и его возможные объяснения, имею в виду указать весь интерес, представляемый наблюдениями в указанной местности. К сожалению, не вдаваясь в некоторые длинные подробности, я не могу изложить другого интересного результата, выведенного г. Мюллером относительно близости Вознесенского прииска к полюсу зимнего холода; но и этих указаний достаточно, чтобы наблюдения г. Игнатьева продолжались возможно долее.
К сожалению, термометр г. Игнатьева не совсем надежен, так как служит уже около 15 лет. Не успевши сам выверить термометра, я оставлял на прииске один из своих термометров (ртутный), но поверка сделана не довольно хорошо, чтобы можно было вывести надежную поправку. Но так как г. Игнатьев продолжает жить на прииске и делать наблюдения, то, пославши ему надежный термометр, можно было бы получить, во-1), точную поправку для прежних наблюдений, а во-2), на будущее время наблюдения, изъятые от ошибки.
Зная добросовестность наблюдений г. Игнатьева и полагая, что такой наблюдатель под 59½° с.ш. есть решительно находка, я решил просить Вас, Милостивый Государь, доложить Совету Имп. Русс. Геогр. Общ., не найдет ли он возможным послать г. Игнатьеву нужные инструменты, а именно
1) Нормальный ртутный термометр
2) Обыкновенный спиртовой, от хорошего механика.
Если Совет одобрит это предложение, то инструменты могут быть посланы с г. Майделем, который, вероятно, не откажется довезти их до Нортуйской станции на р. Лене (Олекминский округ) и передать их тут на резиденцию г. Трапезникова.
Примите уверения в совершенном уважении и преданности, с которыми имею честь быть всегда готовый к услугам Вашим
П. Кропоткин
Петербург
22 мая 1868
АРГО. Ф. 1-1868. Оп. 1, № 12.
Неизвестной рукой обращение вычеркнуто, вписан заголовок «Метеорологические наблюдения на Вознесенском прииске в Восточной Сибири». Внесена небольшая правка, вторая половина письма, со слов «В заметках о климате я…» зачеркнута. В таком виде и с небольшими дополнениями опубликовано: Известия Имп. Русского географического о-ва. — 1868. — Т. 4, № 6, отд. 2. — С. 330–331.
Станция перед Псковом,
18 июля 1868 г.
До Пскова доехали хорошо [1]. На 1-й станции спохватился, что забыл взять вид. Он у меня еще был записан на бумажке и еще положил на самом видном месте, но потому-то именно и забыл.
Впрочем, одна немка успокоила, говорит, что за 3 дня скандала не сделают, особенно если профессор знает. «Профессор!— о, это чрезвычайно много значит в Дерпте».
Теперь нашел студента, который тоже едет в Дерпт, вместе доедем до парохода в омнибусе (станция за городом, а пароходы пристают на пустом берегу). Впрочем, там стоит старое судно, на котором можно оставить вещи, а потом утром придет пароход и пересядем на него. На пароходе 8 часов езды, а потому сегодня же будем в Дерпте в 6 часов вечера, потому что, верно, будут остановки из-за мелководья, обыкновенно же 8 час. хода.
Какие окрестности невзрачные, леса мелкие, поля редко разбросаны среди них, жалкие селенья.
Дым такой, что боже упаси. Кругом и возле самой дороги палы [2] ходят, зги не видно кругом, а ты еще радовался за меня, что дыма не услышу.
22 июля 1868 г.
Никак не могу найти письма, которое приготовил тебе вчера, но не успел сдать на почту, ибо проспал (здесь только до 12 час. прием); в Дерпт я приехал 20-го в 5 час. В Пскове с жел. дороги отправился прямо на пароход, а затем бродяжничал по городу все утро. На пароходе ехал с двумя дерптскими студентами и узнал, что здесь живет Гельмерсен [3], я зашел к нему, он меня и перетащил к себе вчера вечером. Вчера провел большую часть дня у Шварца, заполучил кучу материалов, и уже принялся за работу. Много интересного, так как он предоставил мне не только астрономический журнал с метеорологическими наблюдениями, но и свои путевые журналы. Брат Гельмерсена (Ген. Шт.) дал мне также письмо в Петербург, чтобы получить материалы экспедиции. Словом, всё очень хорошо, только не высыпаюсь, в гостинице клопы и блохи не дают вовсе спать.
Ну, до свиданья.
П. Кропоткин
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 97, л.447–449 об.
Переписка. Т. 2. С.214–215.
Примечания
1. Кропоткин ездил в Дерпт через Псков к профессору Л.Э. Шварцу, который по результатам Сибирской экспедиции составил гипсометрическую карту юго-востока Сибири. Кропоткин хотел сверить свои определения высот с определениями Шварца.
2. Лесные пожары.
3. Григорий Петрович Гельмерсен (1803–1885) — геолог, директор Горного института, академик и директор Геологического комитета. Им составлена первая геологическая карта Европейской России.
1869
Никольское, 14 августа [1869 г.]
Из Москвы выехал 8-го, 10-го добрался утром до деревни. Здесь, конечно, все по-старому. Отец ничего себе, ласков более или менее, иногда ссоримся, потом опять в дружбе. Словом, как всегда. Едим, пьем, ездим верхом с Полинькой, играю на рояли и т.д. Мозг не работает, правда, утомила меня и дорога: после московских бессонных ночей еще две ночи не спал. Перевод кончил вчера, проверка еще осталась, перевод на русские меры и исправление. В субботу, если будет случай отослать в Мещовск, пошлю его тебе. На место для тебя в Москве через отца нет никакой надежды: он прямо объявил: «пусть только не в Москве ищет», а в провинции он ничего не сделает. Говорят, и знакомые-то у него не так завидны, он кому-то хлопотал достать место зимою, ничего не достал. Если есть надежда, то на Ив. Ив. Пушкина [1], нужно будет, если не увижу его в Москве, написать ему. Он если сможет, то сделает. Здесь я пробуду до 24-го, так что после 17-го уже не пиши сюда, а Леночке.
Геологией здесь не занимался, хотя есть и побудительная причина — просьба крестьян исследовать тут кое-что, так как в Липицах нашли прекрасный жерновой камень, в слоях, лежащих над горным известняком. Не знаю, удастся ли. Если завтра кончу перевод, то, м.б., что-нибудь и сделаю, хотя мало надежды — здесь, отговевши, начнут опять ездить по соседям.
П. Кропоткин
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 97, л.467–467 об.
Переписка. Т. 2. С. 215–216. В публикации ошибочно датировано 1868 годом.
Примечание
1. Мусин-Пушкин, Иван Иванович — двоюродный брат П.А. и А.А. Кропоткиных.
Я здесь загостился в Москве, [выеду,] [1] вероятно, не раньше 5-го, и не […] [1] С одной стороны, и здесь отдых[аю] с Леночкой, и она рада, что проб[уду] здесь лишний денек, с другой пишу об геологических исследованиях в Калужской губ. Я был у Траутшольда, и он определил ископаемые, теперь пишу краткий [об]зор [2].
Съезда, к большой досаде, почти вовсе не застал [3]. Они сократили число заседаний. В секциях заседания были уже кончены, а с ними все объезды, экскурсии, осмотры. Я застал только Общее собрание, на котором Северцов ораторствовал об том, чтò я раз уже слышал и писал и читал.
[1] не блестящее популярное изложение [следов ледни]кового периода [4]. Бедная публика и тому бурно аплодировала. Затем некто Никольский [5] читал об детской гигиене и тоже мало путного сказал.
Сегодня иду на торжественно собрание в честь Гумбольдта, там готовятся довольно интересные вещи.
Да, еще видел одну вещь: опыт Фуко в Храме спасителя. Действительно, земля уходит из-под маятника. Через 3, 4 размаха уже замечаешь, что валик песку, который он прорезывает кончиком, расширяется, а в 5 минут уже на 1° подвинулся. Ничего, интересно.
Ну, до свидания. Вер[очку] целую и Петю.
П. Кропоткин.
2 сентября [1869 г.]
ОР РГБ. Ф. 410, карт. 12, ед.хр. 54, л. 3–3 об.
Примечания
1. Лист поврежден, утрата части текста.
2. Исследование П.А. Кропоткина по геологии Мещовского уезда Калужской губ. было напечатано в Бюллетене Московского общества испытателей природы: Kropotkin P. Geognostisches über den Reis Mjeschtschowsk im Gouvernement Kaluga // Bulletin de la Société Impériale des naturalistes de Moscou. — 1869. — T. XLII, № 1. — S. 215–233.
3. Второй съезд русских естествоиспытателей проходил в Москве с 20 по 30 августа 1869 г. См.: Труды Второго съезда русских естествоиспытателей в Москве, проходившего с 20-го по 30-е августа 1869 г. — М., 1870. — Ч. 1. — 132, 145, 30, 61, 133, II, 116 с.; 1871. — Ч. 2. — 139, LV, 308, 249 с.
4. Н.А. Северцов в третьем общем собрании съезда, происходившем 29 августа 1869 г, прочитал доклад «О следах древних ледников в Средней Азии и их отношении к новейшим морским осадкам Арало-каспийского бассейна и о значении среднеазиатских ледниковых явлений для общего объяснения Ледяного периода» (см. Труды. Ч. I. С. 118–123 первой паг.).
5. В Трудах съезда указано, что «Н.А. Тольский говорил о важном значении гигиены в общественной жизни и в особенности в применении к… учебным заведениям» (Там же. С. 123).
1870
[Пулково. Май 1870 г.]
Я тебе уж вчера собирался написать, да Цингер хотел сегодня сам быть у тебя. Поедет он, однако, только сегодня вечером.
Здесь я погрузился совсем в геодезию, только небо всё пасмурное и вот 2 дня нельзя было наблюдать. Цингер и Шарнгорст [1] взялись меня выучить, и в первый день по приезде и на следующий всё время просиживали со мною, записывали, показывали и т.д., т.о., есть надежда наловчиться под их руководством.
По вечерам болтаем или спорим с Цингером.
Здесь очень хорошо, — сад весь раскустился, зелень, особенно после дождя, свежая, свежая; Верочке бы понравилось, если бы она сюда попала, много цветов, которые в Дудергофе еще не цвели. Только жаль, что всё дожди, а то можно было бы пошляться по окрестности. Сегодня вечером, впрочем, вероятно выяснит, всё смотришь на барометр, чтобы время не терять.
Не приносили ли к тебе, или ко мне, на квартиру корректур от Безобразова: до сих пор ничего нет. Если есть, пришли с Цингером. — Да пришли денег, рублей 5–6, если есть.
Верочку и Петьку целую. Что Вера — выходит уже?
Ну прощай.
П. Кропоткин.
Корректуры верно на квартире, так как оказывается, что я не отослал письмо Гаврилову.
Если в субботу будет хорошая погода, я не приеду в Петербург, — теперь нельзя Луны упустить.
ОР РГБ. Ф. 410, карт. 12, ед.хр. 54, л. 1–2. Год утановлен по пометам Н.Т. Кропоткиной (жены племянника П.А. Кропоткина) на л. 1 и обложке, в которую вложена часть писем П.А. Кропоткина А.А. Кропоткину, хранящихся в ОР РГБ; месяц определен по письму П.А. Кропоткина М.И. Гольдсмит от 9 июля 1915 г. (см. прим. 1).
Примечание
1. Николай Яковлевич Цингер (1842–1918) — астроном, геодезист, картограф; Константин Васильевич Шарнгорст (1846–1908) — топограф, геодезист и картограф; в 1860–1864 гг. учился в Пажеском корпусе и был, следовательно, с юношеских лет знаком с П.А. Кропоткиным. Оба были профессорами академии Генерального штаба и об обоих оставили воспоминания многие военные (А.И. Деникин, А.А. Игнатьев и др.). Об обучении у Цингера и Шарнгорста работе с геодезическими инструментами Кропоткин вспоминал в письме М.И. Гольдсмит от 9 июля 1915 г.
[Никольское, 29 июля 1870 г.]
Вчера я с особым наслаждением читал про побитие французов статейку в «Петерб. ведомостях» и совершенно с ней согласен. Если я желал успеха пруссакам, даже взятия Парижа, то единственно, чтоб образумить этот нелепый народ. Больше всего меня порадовали волнения в Париже, требование созвания палат, которые эти подлецы распустили с явною целью действовать бесконтрольно, прокламация министров, которым не нравится самодеятельность парижан в защите своего города и раздача оружия. Не дурен и тихий тон Наполеона, а народ обходится без него, сознание бессилия, разорванные сообщения с Мак-Магоном, — на первых днях войны, т.е. такая грубая ошибка в ведении войны, которую не простят ему французы, — ведь это все равно, что совсем опростоволоситься. И все это в телеграммах одного дня, — и тут еще надежды на чужеземную помощь уже через два дня после первых стычек.
Словом, щелчки хороши, — не потерпи Наполеон неудачи в Мексиканской войне, в европейской политике им не были бы недовольны, а крупные щелчки извне, я в этом твердо убежден, заставят обратиться и к внутренним делам… Вот почему я от души желаю поголовного побития французов, и так как Наполеон не слетит, пожалуй, ранее, чем возьмут Париж, то пусть его берут немцы. Прусские генералы гуманнее французских, — более развиты, несомненно, они не станут, удаляясь, жечь Саарбрюкена, не станут и Париж грабить.
Еще интересны во всем этом две вещи: волнение в Лионе, настолько сильное, что должны были вернуть корпуса, занимавшие его, и громадное число пленных. Трудно думать, что большое число пленных обусловливалось тактикой кронпринца вообще, — помнишь, сколько брали пленных в австрийскую войну 1866… Если же нет, то, должно быть, военный энтузиазм французской армии не далек от военного энтузиазма австрияков в 1866 г., которые сдавались толпами, нисколько не сочувствуя войне. — Волнение в Лионе знаменательно: это первый случай, если не ошибаюсь, в последние годы серьезного протеста против войны со стороны населения, хорошо, что именно рабочих. Международное общество рабочих [1], видно, не даром существует. Жаль только, что не дадут взять Парижа, вмешаются раньше.
Мои занятия идут довольно медленно. Только вчера отослал 14-ю главу, небольшую, — да три дня прошалопайничал, — насморк и голова болит, — все растения определял, достал Кауфмана [2] и не только собираю растения, но и определяю их; к сожалению, местность здесь уж очень однообразная, оттого и флора бедна, а ходить куда-нибудь подальше не решался, очень уж жарко было, да и отослать часть рукописи хотелось. Теперь будет посвежее, отправляюсь куда-нибудь геогнозировать, а то все сидишь.
Если Верочка заинтересовалась политикою, то, верно, не ограничится одним легким газетным чтением, а захочет немножко познакомиться с историей последнего времени. Рекомендую Шерра «Комедию всемирной истории», наконец найдется еще что-нибудь по-русски по истории последнего десятилетия или вообще нынешнего века. Поцелуй ее от меня вместе с Буртаской [3].
Неужели от Сонечки [4] нет писем. Доехала ли она, или застряла где? Напиши, когда получишь письмо.
П. Кропоткин
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 97, л.472–474 об.
Переписка. Т. 2. С. 217–218.
Примечания
1. Интернационал.
2. Кауфман Н. Московская флора или описание высших растений и ботанико-географический обзор Московской губернии. М., 1866.
3. Маленький сын А.А. Кропоткина.
4. Софья Николаевна Лаврова, сестра жены А.А. Кропоткина, корреспондент П.А. Кропоткина.
5 августа 1870 г.
Ну, высылай продолжение карты, первой уже не хватает. А Наполеона все-таки еще не прогнали и, по-видимому, еще не скоро прогонят, так как республиканская партия решила не ускорять событий. Нет, видно, нужно французам, чтобы у них взяли Париж. Комитет защиты организовался или нет? Об нем что-то ничего не слышно. Я жду с нетерпением известий об нем, так как считаю его весьма и весьма важным шагом. В настоящее время главное дело Франции, конечно, защита, а защита немыслима без целого ряда внутренних мер. И это главное дело поручается комитету, который, если составится из порядочных людей, будет играть роль временного правительства. Это значительно облегчит перемену образа правления, — хотя я, признаться, настолько мало стал верить Франции, что сильно боюсь, что перемена правления будет не та, которую нужно. Не даром Франция в последнее время ударилась в парламентаризм, развращенные Наполеоном, его наемными кокотками и т.п., — парижане, побоятся, пожалуй, республики и призовут орлеанских принцев, — парламентаристов по преимуществу. Не верю я теперешней Франции. И до Наполеона общественная нравственность сильно в ней падала, а 18 лет Напол[еоновского] правления не могли пройти даром. Сами социальные идеи утратились должно быть, в развитой части общества. Возьми, например, Education sentimentale Flober’а [1] просто в ужас приходишь от характеров деятелей, даже 48-го года, 5–6 порядочных людей среди стада самых пошлейших личностей. Наконец, современная романистика — создает ли она своих героев-социалистов? Нет, да их и нет, пожалуй. Мещанская Германия имеет своих Шпильгагенов, свои «Что делать?», свои социалистические романы. Ничего этого нет во Франции. Передовые романисты, вроде Léo [2], доросли только до эманципации женщин — этим и Писемский пробавлялся в 30-х годах. Меня возмущает опошление Марсельезы наполеоновскими кокотками, — лучше не нашли, чтоб петь их, как известную кокотку с какого-нибудь театра. Прежде хоть Рашель, [а] теперь Луизы из café-chantant. А само это клубничное направление француженок, — ведь всю Европу снабжают своими Луизами et Cie. Если можно в кого еще верить, так это в парижских рабочих (говорят же, что парижский рабочий развитее всех в социальном отношении). Они, конечно, представляют запас сил, какого, пожалуй, не найдешь в Европе, возьми хоть их отчеты во время Парижской выставки [3]. Но скоро ли они выступят наружу со своими требованиями и — главное со своею способностью организовать что-нибудь? Наконец, в последние годы Франция далеко утратила свою прежнюю монополию социалистического движения в рабочем классе. Вспомни Вену, где под гнетом австрийских законов вырабатывается сильная партия рабочих, которая организуется сильнее, чем французские рабочие. Вспомни беспрестанные стачки, делающиеся там в громадных размерах. Последние волнения — только один из часто повторяющихся случаев. Возьми затем это международное общество рабочих. Кто главные его участники: германские и бельгийские рабочие. В «Tagwacht» — соц.-дем. газете для рабочих (Цюрих) помещен список социалистических газет для рабочих. Из них 9 немецких в Европе и 2 в Америке, и только 5 французских; 2 бельгийских, 1 швейцарская, 1 Nauenburg (в Германии?) и 1 во Франции; «Le Socialiste» в Париже закрыт, на испанском языке 4 и русских 2. Как ни пошл северо-германский парламент, как ни легко было, при обстоятельствах этой войны, признать Германию обиженною, но тем не менее в германском парламенте нашлось хоть 2 депутата, которые протестовали против займа на войну [4] и могли в своем письменном протесте сказать в глаза, что настоящая война — чисто династическая, вызвана войною 1866 г., которая велась для возвышения Гогенцоллернов, а потому они, как соц.-республиканцы, члены международной ассоциации (International’ы), протестуют против этой войны. Во французских палатах не нашлось ни одного протеста, и V. Considérant [5] должен был напечатать протест, который заявил бы в палатах, если бы они были свободны. Словом, в виду той быстроты, с которою «Int[ernational]» распространяется в Германской Европе, в виду многих протестов германских рабочих против настоящей войны, в виду организованных стачек в Германии и способности рабочих организоваться в правильные общества, в виду организаторской способности германского рабочего, воспитываемой стачками и обществами, я полагаю или, вернее, начинаю думать, что даже рабочий во Франции отстает от рабочего в Германии; а конечно теперь, когда принципы провозглашены громогласно, всё дело в способности организоваться в правильные коалиции, сильные и способные силою протестовать против насилий правительства и высших классов. Словом, я сомневаюсь, удержалась ли Франция в своем прежнем значении знаменщика социализма. Нам ненавистно немецкое бюргерство, — оно сильный тормоз. Но лучше ли его французская буржуазия, особенно после 18-летнего развращения Наполеоном. Только хороший погром, разрушив казенные иллюзии, отрезвит парижан, а такой погром может быть только взятие Парижа. Но не поведет ли это к монархии орлеанистов?
То, что происходит у тебя в Д[епартамен]те, разыгрывается теперь во всей Европе: всюду рабочие и их сторонники, люди прогресса и будущего стараются свести вопрос с национальной точки зрения на международную или, как выражался Чернышевский, с национальной на народную. А победные войны ведут только к усилению национальной точки зрения. Вот почему желательно, чтобы грызущиеся собаки друг друга съели. Но чем это отзывается на массах?
Вот в какие времена 1000 раз пожалеешь, что нет порядочных, честных, дешевых газет. Ты знаешь Москву, а и в Москве нередко извозчик едет шагом в пролетке и читает газету, — даже Леночкин повар — антик вполне — интересуется газетами вместе с кучером et Cie хозяев. И знаешь, что их заинтересовало особенно: требование Кератри [6] об отречении Наполеона. Поняли, что прогоняют Наполеона, и, не питая к нему вражды, заинтересовались фактом изгнания, и когда в одной газете не было еще этой телеграммы, поняли, что скрывают, недоверие. Дешевые газеты, «Русские ведомости», «Современные известия», идут лучше всех, ибо по 5 коп., а они бы должны быть по 2, по 3. Ведь какое богатое время, чтобы разъяснить много и много из государственной жизни. Представь себе только газету, наполненную короткими, картинными описаниями не столько самих драк, сколько их последствий, разоблачений дипломатии и причин войны, с краткими историческими очерками (помнишь, что цензура позволяла нелестные фразы об монархии — в Испании [7]), и непременно картин разорения, несчастия. Припомни газеты 1856 г. и теперешние, теперь нет этих сцен, их обегают или более интересуются военными подробностями сражения. Припомни, что и из романов-то мы знаем только ряд романов Шатр[иана] в этом духе. А известия, помещаемые теперь с театра войны, способны скорее возбуждать энтузиазм военный, чем отвращение к зачинщикам, войне самой. Такие времена — золотое время для пропаганды, и газеты читают, и самые события таковы. Я бы с наслаждением работал в такой газете. Имея установившиеся общие взгляды, легко, ознакомившись с исторической литературой, иметь трезвый взгляд — соц.-дем. — на современные события в частностях. В руках цензурно-опытного, решительного и осторожного редактора такая газета процветала бы даже под покровом цензуры. Я с наслаждением занялся бы в такой газете. Такая досада, что тогда не состоялось приобретение «Сына отечества», на которое я все подбивал Бартошевского. Если он будет теперь получать такое большое жалование, то не выдумает ли он теперь чего-нибудь. Держатся же «Русские ведомости» или «Современные известия», издаваемые бездарными людьми.
От Сон[ечки] получил письмо, которое привезли Федоровы, она наняла квартиру, которой очень довольна, в одном коридоре с Фед[едоровыми]. Я их еще не видел. Они только сегодня собираются сюда, к М.А. Предлагали заниматься с ним мат[ематикой], я отказался, некогда, и так уже ничего не делаю. С Андр. Мих. занимаюсь 3 раза в неделю. Павл[инов] [8] прислал ему мало денег, нужно было уплатить в пансион, да нанять квартиру. Они наняли <одну за 5 р., но неудачно, пришлось съехать, и т.д. Я ему дал взаймы 15 р., и потом два раза по 5 р. Если у Павл. есть деньги, пусть вышлет эти 25 р., да Анд. Михайловичу нужно, а то как не будет на обед во время экзаменов, плохо. Если он при деньгах, то пусть вышлет еще рублей 10–15 мне, это за уроки, а то уж задолжал Лен[очке]>. Андр. Мих. получил деньги и отдал мне мои 25 р. — 9 авг. 1870.
Вчера были у Дун., она была имянинница, она пила уже первую партию вод, и очень довольна последствиями. Она, которая не привыкла ходить иначе как с узлом и второпях, ходила 1½ часа каждое утро, и аппетит великолепный. Ее желудок отлично переваривает железо, это очень хорошо, впрочем, приемы еще малы. Завтра она опять будет здесь и сходит к Чернову узнать насчет дальнейшего питья воды.
— Мои занятия идут довольно плохо, да и гуляю мало. Ни разу не геогнозировал, далеко ходить, зато гербарий увеличивается, жаль бумаги мало взял. Статью переделываю, но очень медленно идет, атмосфера не та. Да и Типография ничего не высылает. Рояли нет, только у хозяина, но там я не бываю.
9 августа.
Письмо залежалось, думал еще писать, да вот эти дни хворнул. Поясница болит, беда как сильно. Геморрой, или надуло, не знаю. Дача карточная, везде щели и дует, а вечером и холод на дворе. Переедем в Москву после 15-го, до 20-го, потому пиши в Москву, если будешь писать после 15-го.
Поцелуй Вер[очку] и Петю. Люде и Ник. Мих. поклон. Скажи Людмиле, что растения будут в довольно невзрачном виде. Бумаги мало, а сохнут плохо, — сыро уж очень.
Если тебе нужны деньги, а они сами не догадались прислать на дом, придется написать. Если же улучишь время (там собираются от 2 до 5 часов), то можно получить по этой записке.
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 97, л.475–479 об.
Переписка. Т. 2. С. 219–222 (с многочисленными ошибками и без окончания (начиная со слов «От
Сон[ечки] получил…»); выправлено по рукописи).
Примечания
1. «Воспитание чувств», роман Г. Флобера.
2. Андре Лео — французская писательница, социалистка, писала романы на социальные темы, принимала участие в Парижской коммуне 1871 г. Была замужем за известным деятелем Коммуны и французского рабочего движения Бенуа Малоном. После разгрома Коммуны она и Б. Малон эмигрировали в Швейцарию.
3. П.А. Кропоткин имеет в виду «Доклады рабочей комиссии» во время Всемирной выставки в Париже в 1867 г.; в составлении этих докладов принимали участие деятели французского рабочего движения, бывшие членами Интернационала: Евгений Варлен, Толэн и др.
4. Август Бебель и Вильгельм Либкнехт — социал-демократические депутаты Рейхстага.
5. Виктор Консидеран (1808–1893) — французский социалист, последователь Ш. Фурье.
6. Эмиль Кератри (1832–1904) — французский писатель и политический деятель.
7. Кропоткин говорит о своем сотрудничестве в газете «Деятельность» в 1868–1869 гг. «Помню, тогда произошла революция в Испании, прогнали Изабеллу — я и написал передовую о преимуществах республики перед монархией. Цензор везде прибавил „для Испании“, „в Испании“. Выходило очень занятно» («Литературный послужной список» П.А. Кропоткина // Труды Комиссии по научному наследию П.А. Кропоткина. — М., 1992. — Вып. 2. — С. 124–127).
8. Павлинов — адвокат, муж сестры Веры Себастьяновны, жены А.А. Кропоткина — Людмилы Себастьяновны.
19 августа 1870 г.
Я тебе не пишу, потому что с того дня, как писал в последний раз, у нас пошел такой кавардак, что угла нет, где бы писать покойно. Мы на другой день после последнего письма переселились в Москву. Флигель оказался весь в клопах, — жильцы напустили во всех комнатах. Пришлось переклеивать обои, переделывать печи и т.п. Все разместились в двух комнатах, да и хлопоты по постройке и пр.
Я собираюсь выехать 26-го, но выехать не с чем. Достань хоть у Павл[инова], если у него есть, рублей 15, (десятью, пожалуй, не обойдешься), и вышли мне. Как приеду, получу с Остен-Сакена [1] и возьму вперед. У Леночки финансы плохи.
Сегодня еду в Сергиевскую лавру, у тетки Сулима есть, говорят, отличный, похожий портрет матери, который бабушка завещала передать Лен[очке]. Я еду затем, чтоб снять фотографическую копию. Мне давно хочется иметь хороший ее портрет. А то, м.б., и самый масляный портрет возьму, Леночке незачем. Теперь удобный случай съездить, и поездка будет мне дешево стоить, так как я на извозчиках вовсе не езжу, а хожу много. Завтра же вернусь.
Третьего дня был у Булатовых. Старики очень обрадовались мне. подробно расспрашивали о Верочке, Людмиле, тебе кланяются и целуют. Я у них буду еще раз в конце этой недели.
Скоро, значит, свидимся, мне уж скучно без вас, больше месяца не виделись.
П. Кропоткин
Верочкин товарищ Булатов просил ей много кланяться. Он учится в университете, медик. Леночка много всех вас целует.
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 97, л.480–481 об.
Переписка. Т. 2. С. 223 (с многочисленными ошибками, исправленными по рукописи).
Примечание
1. Федор Романович Остен-Сакен — путешественник, секретарь Русского географического общества.
Корреспондент Кропоткина.
20.VIII.1870
Сейчас вспомнил: если вышлешь деньги, вышли на имя Леночки, у меня билет здесь не прописан, вышел срок отпуска. Если денег трудно достать, не высылай, у Леночки возьму.
Твое письмо получил вчера.
Выеду непременно 26-го, тогда устроим Полякова. Едва пишу, нарыв на пальце. Скоро свидимся.
П. Кропоткин
Суббота, вечером
Я просто похолодел от радости, узнав, что Наполеон больше не император Франции, но скверно, что судить не будут [1].
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 97, л.482–482 об.
Переписка. Т. 2. С. 224.
Примечание
1. На письме имеется позднейшая карандашная приписка рукой П.А. Кропоткина: «Нап[олеон] б[ыл] свергнут 2 сент./20 авг. 1870 г.».